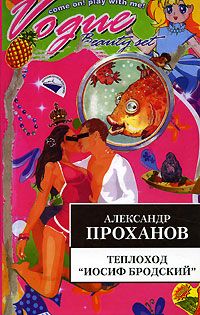— Кабы не ты, брат, парился бы я сейчас в другой бане, в гостях у Топтыгина, — хохотнул Малютка. Подхватил лохань с березовыми вениками, приоткрыл дверцу в парную, и они друг за другом из прохладного предбанника нырнули в прозрачное пекло, где воздух звенел и светился от нестерпимого жара.
Керосиновая лампа была окружена голубым сиянием. В струганых бревнах смугло блестела смола. Булыжники в каменке были малиновые. Дощатых полок было невозможно коснуться. Они постелили полотенца, уселись, чувствуя, как раскаленное дерево подбирается к ягодицам. Сидели, взяв во рты серебряные крестики, оттягивая жгучие цепочки. Привыкали к жару, ошалело моргали глазами, покрываясь стеклянным блеском.
— Теперь, Вась, ты мой брат, и я у тебя в неоплатном долгу. Если тебе орган какой пересадить, бери у меня. Если деньги нужны, бери половину всего капитала. Хочешь, в долю тебя возьму, подарю половину пакета акций. А лучше, уедем с тобой на Амазонку. — Франц Малютка блаженно отекал жарким потом, который вытапливал из него ужас смерти, оставляя в огромном теле ощущение сладостной жизни, возможность пользоваться ею вопреки всем напастям.
— Почему на Амазонку? — спросил Есаул, теребя языком серебряный крестик, подарок духовника, схи-момонаха Филадельфа, встреча с котором предстояла через несколько дней на одном из озерных островов. — Почему Амазонка, Франтик?
— На Амазонке, я слышал, живут ядовитые бразильские муравьи. Хочу поймать одного, привести в Москву и выпустить на тещу. Пусть ее укусит. Как ее. терпел покойный Кипчак, один Бог знает. Говорят, он был милейшей души человек, а она заставляла его изображать курицу-несушку. Бывало, сделает посреди его кабинета соломенное гнездо, усадит голого и скажет: «Сиди, дорогой, на яйцах». А сама к курсантам военно-морского училища на бал уезжала. Мне Луизка под большим секретом сказала, что Стеклярусова муженька своего задушила подушкой, когда тот приревновал ее к капитану третьего ранга. Коварнейшая бабенка, должен сказать. Тувинец Тока выходил от нее с заплаканными глазами. Говорит, она заставляет его изображать горную орлицу, для чего голого сажает на шкаф. Мы договорились с Токой, он подсадит ей бразильского муравья. — Простодушное лицо Малютки преисполнилось тонкого коварства. — Мадам Стеклярусова велит высыпать себе на спину рыжих лесных муравьев, чтобы они ее жалили муравьиным спиртом. Тока обещал подсадить бразильского муравья к нашим лесным мурашам. Укусит старую блядь, и многие от нее отдохнут.
Малютка схватил деревянный ковшик, черпнул из кадки воду, кинул на малиновые камни. И казалось, в бане взорвалась граната — дым, обжигающее пламя, крики изувеченных людей. Есаул чуть было не слетел с полки, окутанный пламенем, как человек-факел. Малютка махал кулаками, отбивался от разъяренных духов воды и огня. Когда бешеные демоны, пометавшись под потолком, улетучились сквозь невидимые щели, оба взяли из лохани по березовому венику. Стали обмахиваться, подымая вокруг протуберанцы раскаленного воздуха. Обхлестывали себя, покрикивали, шелестели раскаленными ворохами, которые оставляли на коже румяные пятна, словно их целовала красногубая великанша. Веники осыпали духовитые листья, и один, как водится, прилип к толстой ягодице Франца Малютки.
Вырвались из парной головами вперед. Плюхнулись на холодные лавки, чудесно остужавшие накаленные задницы. Спешили влить в себя ковши прохладного кваса. Хлюпали, проливали благословенный русский напиток на бурные, дышащие груди.
Отдыхали в прохладе, глядя в растворенную дверь, как на золотом отражении парит волшебный корабль.
Отдышавшись в прохладе, похватали из лоханки дубовые веники. Прикрываясь ими, как солдаты внутренних войск прикрываются щитами, кинулись в пекло парной. Их снова охватили огни, раскаленные камни, готовое задымиться дерево. Сидели с крестами в губах, выпучивали сияющие глаза на покраснелых лицах.
— Я Луизку люблю, ты знаешь. — Франц Малютка испытывал потребность делиться с новообретенным братом переполнявшими его чувствами. — Она женщина замечательная, баба клевая. Таких я еще не видывал. Может позвать меня эдаким ласковым голосом: «Подойди ко мне, милый», а когда подойду, засадит кулаком мне под глаз. Классно! Или: «Подари мне, милый, бриллиантовый перстень, как у жены Президента Парфирия!» Я тут же, конечно, дарю, а она его — в унитаз. Но вчера такой сюрприз отмочила, даже не знаю, как объяснить. Тебе по-братски скажу. Представляешь, у нее под мышкой вторая дырка открылась, точь-в-точь как первая, только поменьше. Она меня к этой дырке стала приманивать. Подняла вверх локоток и зовет: «Милый, поставь мне градусник. Кажется, я нездорова». Один раз поставил, второй, третий. «Все, — говорю, — градусник сломался. Вся ртуть вытекла». А она говорит: «Ладно, миленький, ступай в ванну. Принеси градусник для температуры воды, с деревянным набалдашником».
Удивляясь метаморфозам своей суженой, Франц Малютка подхватил ковшом из бадьи, метнул на булыжники. Казалось, в печке открылся вулкан, ударил фонтан кипятка, полетели раскаленные камни, рванули ввысь свистящие вихри из самого центра Земли. Оба, голые, заслоняясь руками, напоминали персонажей картины Брюллова «Последний день Помпеи». Когда буря понемногу улеглась и они выглядели как раки в кипятке, с остановившимися выпученными глазами, их ослабевшие руки дотянулись до дубовых веников. Стали обмахиваться, сначала немощно, потом все сильней и сильней, входя в раж, занимаясь самоуничтожением. И, только вспомнив христианскую заповедь, категорически возбраняющую самоубийство, неохотно откинули веники и устремились наружу. Есаул заметил, что к могучей ягодице Малютки, рядом с березовым, прилип волнистый дубовый лист.
Вновь остывали, как две малиновые, выхваченные из горна поковки. Пили студеный квас, любовались далеким видением корабля, стоящего на золотых столбах. Слушали отдаленные возгласы толпы, ликующей при виде насаженного на вертел медведя.
Есаул продолжал размышлять о таинственном плане, который мерещился среди дурацких выходок, коварных интриг, развратных развлечений и содомских услад. Старался угадать таинственного демиурга, управлявшего заговором, носителя инфернальной идеи, которая испускала черные лучи сквозь разноцветную маскировку.
Колдунья Толстова-Кац своей ворожбой и чарами сводила с ума, напускала порчу, лишала воли. Она насаждала зло, мутила души, окружала план незримым покровом, ослепляя всякого, кто желал его разглядеть. Наносила разящие колдовские удары тем, кто приближался к сокровенному ларцу, где хранился тайный свиток с халдейскими письменами и была начертана ужасная истина. Но не она, чародейка и ведьма, была составительница тайного свитка, создательница инфернального плана.
Добровольский, развратный старец и бессменный масон, ведущий свою родословную от тамплиеров и розенкрейцеров, искусный игрок и ядовитый паук, окруживший своей паутиной несметные сонмы людей, хранитель несметной казны, знаток криптограмм, плетущий из века в век нескончаемую, от библейских времен интригу. Организатор, он сводил воедино усилия заговорщиков, устанавливал связи, соединял олигархов, запускал свои щупальца в министерства и партии, военные штабы и разведку. Но не он был творцом темноты, не он взрастил адский кристалл, от которого исходили черные лучи мирового затмения.
Губернатор Русак, ненавистник, садист, мучитель людей и животных, насаждавший в святом для России городе порок и растление, оспаривающий победу святого князя Александра над «псами-рыцарями», ратующий за переименование Новгорода в Ноесбург. Он был виновен в безвременной гибели писателя-историка Дмитрия Балашова, когда тот докопался до генеалогии губернатора. Выяснил, что Русак ведет родословную от трусливого зайца, попавшего под копыта коня, на котором Александр Невский возвращался после победы над тевтонами. Чем и объясняется лютая ненависть губернатора к памяти великого князя. Русак носится с дурковатым модельером Словозайце-вым из-за присутствующей в его фамилии «заячьей» составляющей. Хлещет до крови собаку, садистски мучит манекенщиц, доводя их до любовного исступления и многократно прерывая оргазм, после чего у нервических дев случается трехдневный припадок смеха. Но не он, потомок летописного зайца, является демиургом зла, носителем инфернального смысла, князем темноты, чье излучение туманит полдневное солнце, свертывает молоко в кормящей груди, среди летнего зноя превращает летящую птицу в комочек мертвого льда.
И уж конечно, не Куприянов, надувной подитик, брызгающий одеколон на лобок, часами перед зеркалом любующийся своей наготой, глотающий сырые яйца, запечатленный коварным Шмульрихтером с расстегнутой ширинкой и бокалом шампанского.
И конечно, не усы Михалкова, не лысинка Жванец-кого, не тухлая шляпа Боярского, которые сами по себе не являются злом, а лишь полным отсутствием добра.