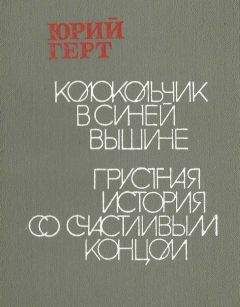Что такое любовь?.. Жизнь?.. Вопросы эти мучили меня, скребли, царапали... Я не в силах был ответить на них, но и отвязаться от них не мог. Они мешали мне слушать, вникать в рассказы, написанные великими мастерами. Это меня раздражало. Мне было тогда невдомек, что рассказ еще не написанный лучше любого написанного, пусть его написал даже гений...
Мы были дети провинции.
За столом, покрытым клеенкой в чернильных кляксах, мы мечтали о больших городах. О Третьяковской галерее.
О Медном всаднике. О троллейбусах. О кипучей, наполненной великим смыслом жизни...
Приближалось восьмисотлетие Москвы. К нему готовилась вся страна. В школе на уроках истории мы делали доклады: «Москва — сердце нашей Родины», «Москва — центр искусства и науки». Мы клеили монтажи, выстригая картинки из старых журналов. После уроков, под баян, на котором играл Нарик Хабибулин, репетировали концертную программу для школьного вечера на тему; «Москва в песнях и стихах»...
Там, в Москве, было все: Минин и Пожарский, Мавзолей, Красная площадь, Толстой, Гоголь, Маяковский... Не перечислить. Что в сравнении с этим была наша Астрахань?.. Мы бродили по ее жалким улицам. Пылил ветер. Над Канавой сиротливо высился кирпичный остов дома, наполовину возведенный еще до войны и не достроенный до сих пор. Мосты так обветшали, что некоторые, во избежание несчастных случаев, пришлось закрыть. Между прогнившими сваями струилась зеленая вода. Канава с каждым годом все больше мелела, зарастала илом.
Но как-то раз, мастеря очередной монтаж, мы принялись вспоминать, и вспомнили, что наша Астрахань, в древности называвшаяся Итиль (тут мы допускали маленькую и в общем-то невинную натяжку), была столицей Хазарии, то есть это тоже город дай боже какого возраста... Мы вспомнили, что здесь, у нас родились, помимо Хлебникова, первый российский академик Тредиаковский (как мы все моментально полюбили его за это, каким почтением к нему прониклись!), художник Кустодиев, оперная певица Максакова... Этого было мало. Мы вспомнили о восстании Ивана Болотникова, о Степане Разине, о том, какую славную роль играл наш город в истории народных бунтов и мятежей!..
Мы вспомнили о Марине Мнишек... Точнее, о ней вспомнил Мишка Воловик. То есть он вспомнил, что Марина Мипшек, сбежав из Москвы с Заруцким, по пути на Урал очутилась в Астрахани... Но ему возразили, что это была попросту авантюристка и никакого отношения к настоящей истории она не имеет. На что Мишка Воловик сердито заметил, что в нашем положении и такими фигурами тоже бросаться не стоит... В конце концов мы решили оставить ее в покое — ради Пушкина, который о ней писал. Так отыскалась ниточка, связавшая Астрахань с Пушкиным, — по этой части у нас до того было слабовато...
Зато Володя Шмидт, хорошо знавший историю, припомнил, что в Астрахань приезжал Петр I и даже основал здесь порт, и что у нас — было время — проживал сам Суворов... Про Петра мы сами кое-что знали, про Суворова же услышали в первый раз, и даже не поверили, но потом выяснилось, что да, Володя был прав, Суворов у нас жил более двух лет, перед Персидским походом, который, впрочем, не состоялся...
И так далее. Мы перебрасывались от фактов недавних и хорошо нам известных к событиям давнишним, едва светящимся тусклыми размытыми огоньками за толщей веков. Да и то, что было нам известно прежде хотя бы из того же учебника, поворачивалось теперь какой-то неожиданной стороной. Однажды мне пришло в голову, что Святослав, тысячу лет назад разгромивший Хазарское царство, мог заночевать, подложив под голову седло, на том самом месте, где теперь у нас огород и растет картошка. В какой-то книге мне попалось сообщение о том, что та самая Первая клиническая больница, где работала тетя Муся и где мы жили, была построена в 1825 году и называлась тогда больницей Приказа общественного призрения.
1825 год... Пушкин в Михайловском... Декабристы вышли на Сенатскую площадь... Я тысячу раз проходил мимо больничного фасада, но только тут сообразил, что полукруглые выступы на стенах — это пилястры, а треугольник над ними, горбом приподнимающий крышу, — это классический фронтон... Мне представился Петербург, мглистое небо, Каховский, бегущий мне навстречу...
И я увидел — с бугра, на котором стояла больница, был хорошо виден весь город — хазарских воинов с пиками наперевес, скачущих по Советской, и Петра в зеленом камзоле и ботфортах, шагающего им навстречу; я увидел огромную, пеструю, ревущую от восторга толпу вокруг Степана Разина, въезжающего в кремль, и недвижимые, один в один, винтовочные штыки выходящих на ежедневные учения рот, запевающих «Священную войну»... Я увидел Чернышевского, с упорным, погруженным в себя взглядом, с заложенными за спину маленькими, бескровными руками, и седой, веселый суворовский хохолок, и моряков, комиссаров Волго-Каспийской флотилии в черных кожанках, и слепого танкиста с палочкой, которого мы слушали в День Победы...
И все это шло, катилось, клубилось, вздымалось и перекатывалось валами, то пропадая, то выныривая снова в немыслимом, небывалом соседстве... И текло, бурлило — по знакомым улицам, набережным, мостам...
Москва?..
Да, она была сердцем всей страны.
Но провинция?..
Провинции не было.
Была Россия...
ПОЛЁТ
Нас было трое.
(Замечу снова — нас было много таких, мальчиков послевоенной поры... Но нам казалось... Таково свойство юности).
Мы презирали «живущих ради собственного брюха».
Нам хотелось жить ради высоких идей, ради всеобщего счастья.
На меньшее мы не были согласны.
Тех, кто был согласен на меньшее, мы называли мещанами.
Мещанами, обывателями.
«Безумство храбрых — вот мудрость жизни!..»
Мы считали, что мудрость жизни нами постигнута.
Она заключалась в том, что люди делятся на Соколов и Ужей.
Нас тянуло небо.
Высота.
Простор.
«Безумство храбрых...»
Между тем люди вокруг нас жили обыкновенной будничной жизнью. Они работали. Ели. Ходили друг к другу в гости. Радовались редким обновам. Вечерней прохладе — летом. Первому снегу — зимой.
По всей видимости, не было ничего зазорного в том, что еда («брюхо») занимала не последнее место в их жизни: после полуголодных военных лет людям хотелось насытиться. Обносившись за войну, променяв мало-мальски стоящее тряпье на хлеб и пшено, они стремились приодеться, пускай не слишком красиво — хотя бы добротно, что в те годы было совсем не простым делом...
Всего этого мы не признавали.
Пока в Индии голодает 350 миллионов, пока американских негров линчует Ку-Клукс-Клан, пока где-то на свете существует несправедливость, вероломство, эксплуатация одних людей другими, только полнейшее душевное ничтожество может заботиться о собственном брюхе — чем его наполнить и во что облачить.
Что до нас, то ни еда, ни одежда нас не занимали. В моем дневнике, уцелевшем с тех времен, среди записей о книгах, театре, школьных делах и т. д. я встретил единственное упоминание в полстроки о том, что поскольку мои ботинки вконец разлезлись, я не пошел в школу и остался дома. Когда на обшлагах наших брюк вырастала бахрома, мы состригали ее ножницами. Заплатам на локтях наших курток и пиджаков позавидовали бы нынешние хиппи. Но эти заплаты мы носили не ради бравады и стремились, чтобы они выглядели аккуратно. Это было нелегко, материал вокруг прорех полз под иглой. Володя Шмидт был одет куда элегантней нас с Мишкой: вместо пальто на истончавшем ватине, с разномастными пуговицами и облысевшим воротником, он носил черную стеганую фуфайку, которая отлично сидела на его легко подтянутой фигуре.
Однажды в наш райком комсомола пришло письмо из Таганрогского детдома, разоренного во время оккупации: ребята просили прислать книг для детдомовской библиотеки. Письмо передали нам в школу. В школе его прочли на комсомольском собрании. Спустя несколько дней нашем классе было собрано пятнадцать книг. Пятнадцать замусоленных книженций, от которых пахло чердаком и паутиной. При взгляде на них я припомнил бабушкино «На тебе, боже, что нам не гоже». Мне стало стыдно. То же самое, наверное, испытывали Володя и Мишка, не зря мы понимали друг друга с полувзгляда, полуслова.
Секретарем комсомольской организации у нас была — она же и старшая пионервожатая — очень миловидная девушка, совсем еще молоденькая, лет восемнадцати, бойкая, смешливая и, кстати, единственная на всю нашу мужскую школу. Звали ее Полей. Десятиклассники на нее заглядывались. Она это знала и, даже проводя комсомольски собрания по вопросам дисциплины и успеваемости, немного кокетничала с ними.
Когда через неделю мы внесли к ней в пионерскую комнату несколько увесистых связок с книгами, Поля изумленно выкатила свои хорошенькие карие глазки:
— Что это?..
Мы объяснили.
Но книг, собранных в нашем классе, нам было мало.