— Спасибо вам, молодой человек, большое спасибо. Вы просто чудесный молодой человек.
— Мне теперь надо идти, прошу меня извинить, — сказал он им всем, взглянув напоследок в их встревоженные глаза, где стояла мольба, словно он был кем-то очень могущественным, а вовсе не заведующим спортплощадкой двадцати трех лет от роду.
Фабиан-плейс была последней улицей в Ньюарке перед железнодорожными путями и складами древесины, а дальше уже начинался Ирвингтон. Как и на других улицах, которые ответвлялись от Чанселлор-авеню, на ней стояли разделенные узкими бетонными подъездными дорожками и маленькими гаражами двухэтажные дома с мансардами, с крылечками из красного кирпича и с крохотными палисадниками. На тротуаре перед каждым крыльцом росло молодое дерево, посаженное в прошлом десятилетии муниципалитетом ради тени, но сейчас имеющее чахлый вид из-за долгой ужасающей жары без единого дождя. Ничто на этой чистенькой и тихой улочке не говорило об антисанитарии, об инфекции. В каждом доме на каждом этаже от уличного пекла на окнах были опущены плотные шторы или задернуты занавески. Нигде не было видно ни души — то ли из-за погоды, думал мистер Кантор, то ли потому, что соседи велели детям сидеть дома из сочувствия к семейной беде Майклзов — или из ужаса перед этой бедой.
Но вот из-за угла Лайонс-авеню появилась одинокая фигура — появилась и двинулась сквозь ослепительное солнце, накалявшее Фабиан-плейс и уже размягчавшее на ней асфальт. По особой походке мистер Кантор даже издали узнал, кто это. Это был Хорас. В Уикуэйике Хораса знали все мужчины, женщины и дети — во многом потому, что при виде этого человека, идущего в твою сторону, тебе всякий раз делалось неуютно. Маленькие дети перебегали от него на другую сторону улицы, взрослые опускали глаза. Хорас был местный "псих" — мозгляк лет тридцати, сорока или больше (точно его возраста никто не знал), чье умственное развитие остановилось примерно на шестилетнем уровне, человек, которого психолог, вероятно, классифицировал бы как слабоумного или даже идиота, хотя, разумеется, не стал бы пренебрежительно называть "психом", как давно уже повелось среди юнцов той округи. Он подволакивал ноги во время ходьбы, а голова его, по-черепашьи торчавшая на шее вперед, при каждом шаге разболтанно покачивалась, так что общий вид был человека не столько идущего, сколько ковыляющего. В тех редких случаях, когда он что-то произносил, в углах его рта скапливалась слюна, а когда он молчал, она порой стекала у него по подбородку. Его худое, неправильной формы лицо выглядело так, будто его нещадно плющило и перекручивало в тисках родовых путей; исключение составлял нос — этакая гигантская нелепая картофелина на узком лице, нос, из-за которого иные дети дразнили его, когда он, шаркая, проходил мимо крыльца или дорожки, где они играли: "Эй ты, носорог!" От его одежды в любое время года несло затхлостью, щеки усеивали крохотные кровавые отметинки, говорившие о том, что при детском уме щетина у него на лице была вполне мужская и каждый день перед выходом на улицу либо он, рискуя порезаться, брился сам, либо его брили родители. В тот летний день он, должно быть, только — только вышел из маленькой квартирки позади ателье за углом, где жил с родителями — пожилой парой, говорившей дома на идише, а с клиентами в ателье на ломаном английском, у которой, как говорили, были и другие дети, нормальные и уже взрослые, жившие отдельно: как ни удивительно, один из двух братьев Хораса был якобы врачом, другой — преуспевающим бизнесменом. Хорас, младший в семье, каждый божий день прогуливался по окрестным улицам и в летний зной, и в зимнюю стужу — тогда он надевал большую, не по размеру куртку с поясом и натянутым поверх наушников капюшоном, к рукавам которой были приколоты английскими булавками варежки для его больших рук, при любой погоде болтавшиеся без всякой пользы, а ноги были обуты в вечно расстегнутые черные галоши. Плетясь в этом наряде, он выглядел еще диковинней, чем во время своих одиноких походов в более теплое время года.
Мистер Кантор отыскал дом Майклзов на противоположной стороне улицы, взошел на крыльцо и, нажав в маленькой прихожей с почтовыми ящиками кнопку квартиры второго этажа, услышал звонок наверху. Кто-то медленно стал спускаться по внутренней лестнице; наконец открылась стеклянная матовая дверь. Перед мистером Кантором возник большой, плотного сложения мужчина в рубашке с короткими рукавами, которая едва сходилась на животе. Под каждым глазом у него было темное зернистое пятно; глядя на мистера Кантора, он оглушенно молчал, словно горе лишило его дара речи.
— Я Бакки Кантор. Заведующий спортплощадкой и учитель физкультуры в школе на Чанселлор. Алан был в одном из моих классов, и он играл у меня в софтбол на площадке. Я узнал о случившемся и пришел с соболезнованием.
Мужчина долго не отвечал.
— Алан говорил мне про вас, — промолвил он наконец.
— Алан был прирожденный атлет. Он был очень вдумчивый мальчик. Такой ужасный, невероятный удар. Это просто непостижимо. Я пришел сказать, что скорблю вместе с вами.
В прихожей было очень жарко, и оба они сильно потели.
— Поднимемся наверх, — предложил мистер Майклз. — Можно выпить чего-нибудь прохладительного.
— Мне не хочется вас затруднять, — сказал мистер Кантор. — Я хотел только выразить вам сочувствие и сказать, что ваш сын был превосходным мальчиком. Он во всем вел себя по — взрослому.
— У нас есть чай со льдом. Свояченица сделала. Нам пришлось вызвать врача к моей жене. Она слегла, когда это случилось. Пришлось дать ей фенобарбитал. Поднимитесь, выпейте холодного чаю.
— Мне не хотелось бы никого тревожить.
— Пойдемте. Алан часто нам говорил про мистера Кантора и его мускулы. Он любил спортплощадку… — Голос его дрогнул. — Он любил жизнь.
Мистер Кантор последовал за большим, убитым горем мужчиной вверх по лестнице в квартиру. Там все шторы были опущены, лампы не горели. Рядом с диваном стояла радиола, напротив — два широких мягких кресла. Мистер Кантор присел на диван, а мистер Майклз сходил на кухню и вернулся со стаканом охлажденного чая. Жестом он пригласил гостя пересесть поближе к нему в одно из кресел, затем, болезненно и шумно вздыхая, опустился в другое, с пуфом для ног. Откинувшись и положив ноги на пуф, он стал выглядеть так, будто, подобно жене, лежал в постели, одурманенный лекарством, неспособный двигаться. Шок лишил его лицо способности выражать что-либо. В густом сумраке комнаты потемневшая кожа под его глазами казалась черной, словно на лице был дважды оттиснут чернилами траурный знак. У древних евреев был ритуал: узнав о смерти любимого человека, раздирать на себе одежду. Мистер Маиклз вместо этого припечатал к бесцветному лицу две темные заплаты.
— Старшие у нас в армии, — заговорил он тихо, чтобы не было слышно в соседней комнате, и медленно, точно преодолевая великую усталость. — С тех пор, как их послали за границу, я каждый день жду плохой новости. Пока живы-здоровы, хотя бои были тяжелые, и вот братишка их младший утром просыпается — горит огнем, шея вся онемела, трое суток — и его уже нет. Как мы им об этом напишем? Они воюют, а мы им такое… Двенадцатилетний мальчонка, замечательный, лучше просто не бывает — и умер. В первую ночь ему так было плохо, что утром я подумал: может быть, худшее позади, кризис прошел. Куда там, худшее только начиналось. Какие муки он за день вытерпел! Весь пылал. Вынешь градусник, глазам не веришь: сорок один! Врач, как пришел, сразу вызвал "скорую", в больнице его тут же у нас забрали — и конец. Больше мы сына живым не видели. Умер один-одинешенек. Даже попрощаться не пустили. Всего-то и осталось, что одежда в шкафу, учебники, тетрадки, спортивные вещи и вот эти вот рыбки.
Только сейчас мистер Кантор обратил внимание на большой стеклянный аквариум у дальней стены, где окно, выходившее, вероятно, на подъездную дорожку и соседний дом, было закрыто не только опущенной шторой, но и темными занавесками. Аквариум освещала неоновая чампа, и внутри были видны его обитатели: десяток или больше крохотных многоцветных рыбок — одни наплывали в миниатюрный грот, украшенный миниатюрной зеленью, другие сновали в поисках еды по песчаному дну, третьи взмывали к поверхности, а иные просто висели неподвижно у серебристого цилиндра в углу, откуда поднимались пузырьки воздуха. Хозяйство Алана, его работа, подумалось мистеру Кантору, тщательно обустроенная среда обитания, за которой мальчик прилежно ухаживал.
— Сегодня утром, — проговорил мистер Майклз, жестом показывая через плечо на аквариум, — я вспомнил, что их надо покормить. Как вспомнил, так и подскочил в кровати.
— Он был лучшим из всех ребят, — сказал мистер Кантор, перегнувшись через подлокотник кресла, чтобы его тихий голос был слышен.
— Всегда делал домашние задания, — сказал мистер Майклз. — Всегда помогал матери. Ни капли эгоизма не было в нем. В сентябре должен был начать готовиться к бармицве. Вежливый. Опрятный. Каждую неделю писал братьям подробные письма, сообщал им все новости и читал нам эти письма за ужином. Всегда подбадривал мать, если ее тоска заедала по старшим мальчикам. Знал, как ее рассмешить. Даже когда маленький был, с ним можно было вдвоем посмеяться. Все их друзья, его и старших, не куда-нибудь, а к нам приходили и хорошо проводили здесь время. Квартира вечно была полна ребят. Почему наш Алан заразился? Почему ему выпало умереть?
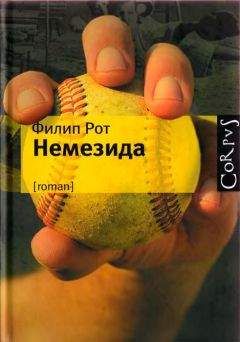



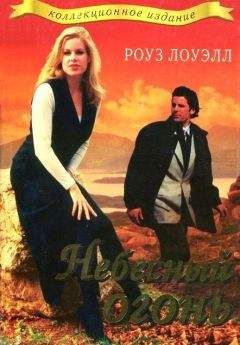
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)