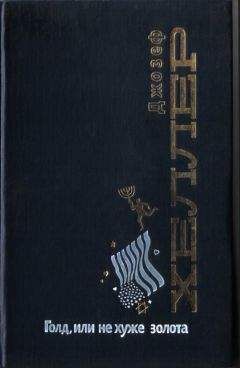«Они ведут большие дела, да, — говорил Джулиус Голд, — но они не знают, что нужно делать. Если бы все эти телефоны принадлежали мне, Боже ты мой, ни один бизнес не обходился бы без меня».
В этом году он приехал в Нью-Йорк еще в мае якобы для ремонта вставной челюсти. Будучи закоренелым безбожником, он теперь, казалось, преисполнился решимости соблюдать все еврейские праздники и постоянно открывал все новые и новые, о существовании которых остальные и не подозревали.
— Наверно он читает этот сраный талмуд, — пожаловался Голд жене, когда его отец сообщил о Шмини Ацерет[8]. Белл сделала вид, что не слышит. — Или он сам их выдумывает.
В Гарриет он нашел родственную его душе антипатию, даже превосходящую его собственную.
— В чем дело? — ехидно заметила она неделю спустя после приезда тестя. — У них в Майами что — и дантиста нет?
Голд знал, что этот союз был временным и хрупким, потому что Гарриет уже некоторое время кропотливо работала над тем, чтобы отдалить себя от семейства, словно расчетливо готовясь к некой очевидной и неизбежной реальности. У Гарриет была вдова-мать и незамужняя старшая сестра, нуждавшиеся в поддержке.
Отец Голда был ростом пять футов два дюйма и подвержен внезапным приступам мудрости. «Делайте деньги!» — мог совершенно некстати вдруг заорать он, а его мачеха при этом литургически добавляла: «Вы все должны слушать, что говорит вам отец».
— Делайте деньги! — закричал он вдруг и сейчас, словно обжегшее душу откровение вывело его из состояния транса. — Это единственная хорошая вещь, которой я научился у христиан, — продолжал он с тем же лихорадочным нетерпением. — Жареная говядина лучше вареной, вот еще одна хорошая вещь. А бифштекс из филейной части лучше, чем из лопаточной. Омары — грязная еда. Они не имеют чешуи и ползают. Они даже плавать не умеют. И никаких нет. Фартиг.
— Вы должны больше слушать, что́ говорит ваш отец. — Обойдя всех, укоризненный взгляд его мачехи остановился на Голде, задержался дольше, чем на всех остальных, и принял самое неодобрительное выражение.
— И чего же он хочет? Что я должен делать?
— Что бы он ни делал, — ответил его отец, — все плохо. Я всегда, — сказал он, — всегда учил своих детей, — продолжал он так, словно обращался к чьим-то другим, — одному: важен не один доллар, важна тысяча долларов, десять тысяч. И все они, кроме единственного… — невзирая на совершенно вопиющее несогласие с фактами и на видимое смущение остальных, он сделал паузу, чтобы с убийственным отвращением посмотреть на Голда, — усвоили этот урок, и теперь имеют состояние, а особенно Сид и маленькая Джоанни. — Его глаза увлажнились при о упоминании младшей дочери, которая так рано покинула гнездышко. — Я всегда знал, что посоветовать. И в результате, когда я состарюсь, — Голд просто не верил своим ушам, слушая бессмысленные разглагольствования этого восьмидесятидвухлетнего хвастуна, — когда я состарюсь, никому не нужно будет помогать мне, кроме вас, дети.
Голд, внутри которого все начало закипать, не почувствовал никаких угрызений за ответный удар.
— Что ж, хоть я и не люблю хвастаться, — грубовато ответил он, — но когда я семь лет назад был в Фонде…
— Ты уже больше не в Фонде! — отрубил его отец.
Голд с содроганием сдался и сделал вид, что целиком поглощен содержимым своей тарелки; Роза, Мьюриел и все его зятья в восторге зааплодировали, а Эстер и Ида покатились со смеху. У Голда появилось ужасное предчувствие, что кто-нибудь сейчас вскочит на стул и примется бросать в воздух шапку. Его отец снова с самодовольной улыбкой откинулся к спинке стула и позволил своим векам опуститься. Голд был вынужден улыбнуться. Ему страшно не хотелось, чтобы кто-нибудь догадался, что он чувствует себя абсолютно раздавленным. И тогда заговорил Сид.
— Возьми в пример ребенка, — словно раввин, нараспев, совершенно неожиданно начал Сид, будто размышляя вслух над кусочком изготовленной Эстер фаршированной шейки, замершим посередине между его тарелкой и ртом, и Голд окончательно упал духом, — как щедро он природой одарен: простой игрушкой счастлив и всему, что видит, радуется он.
Как молния, прожгла Голда мысль — теперь он уничтожен полностью. Это был шах, мат, партия и поражение с самого первого хода. Он был пойман независимо от того, заглотит он наживку или нет, и ему оставалось только дивиться в полном унынии тому, как симметрично и гармонично, словно рябь на воде, разворачивается вокруг него остальная часть стратегического плана.
Все прочие были поражены красноречием и пантеистической мудростью Сида.
— Вот это мне нравится, — пробормотал Виктор.
— И мне тоже, — сказал Макс.
— Чудно, — сказала Эстер. — Правда?
— Да, — согласилась Роза. — Красиво.
— Видите, какого умного первого сына я имею? — сказал отец Голда.
— Ты должен больше слушать, что говорит твой старший брат, — сказала мачеха Голда и нацелилась своей вязальной спицей ему в глаза.
— Это и в самом деле прекрасно, — почтительно согласилась Ида. Ида, ворчливая школьная учительница, считалась интеллектуалкой; Голд, профессор колледжа, был в этом смысле темной лошадкой.
Ида заглянула в глаза Голда. — Правда, Брюс?
Мышеловка захлопнулась.
— Да, — сказала Белл.
Голд был обложен два, три, четыре, а может быть пять или шесть раз. Если он упомянет Александра Поупа, то значит выставит напоказ свои знания. Если не он, то это сделает Сид, обличив тем самым его невежество. Если он исправит неточности, то окажется педантом, спорщиком, завистником. Если вообще ничего не ответит, то нанесет оскорбление Иде, которая вместе с другими ожидает какого-то ответа. Он безрадостно думал про себя, что нельзя так обращаться с немолодым уже выпускником Колумбийского, членом «Фи Бета Капа»[9], закончившим курс с отличием, получившим докторскую степень по философии, удостоенным недавно из Белого Дома похвалы и обещания рассмотреть возможность предоставления ему престижной работы в правительстве. Ну, Сид, хер сраный, размышлял доктор философии и потенциальный член кабинета. Снова ты меня уделал.
— Поуп[10], — решившись наконец, неохотно пробормотал он, ни на секунду не отрывая глаз от своей порции приготовленных Идой клецек.
— Что? — щелкнул челюстями его отец.
— Он сказал «Поуп», — ни на йоту не погрешив против истины, проинформировал его Сид.
— И что это значит?
— Это написал Александр Поуп, — громко провозгласил Голд. — А не Сид.
— Видите, какой у нас малыш умник, — заявил Сид, довольно жуя.
— А Сид и не говорил, что это он написал, — очень кстати заметила Гарриет, встав на защиту мужа. — Разве не так?
— Разве от этого стихи стали хуже? — менторским тоном возразила ему Ида.
— Да, — сказала Белл.
— Разве они стали хуже оттого, что их написал Александр Поуп, а не Сид? — спросил Ирв.
Белл решительно кивнула, то же самое сделали Виктор, Милт и Макс.
У Голда они все вызывали отвращение.
— Это подразумевалось, — возгласил он. — И потом там были неточности.
— Брюси, Брюси, Брюси, — примирительно сказал щедрая душа Сид, он был сама снисходительность и благоразумие. — Ты что, будешь злиться на меня из-за каких-то дурацких неточностей? — Головы под приглушенное бормотание согласно закивали. — Если уж ты такой придирчивый, давай исправим их вместе.
— Сид, опять ты меня заебал?! — закричал Голд. — Опять?!
Следующие несколько секунд были весьма волнующими. Женщины отвели глаза, а Виктор, который не переносил непристойностей в присутствии женщин, еще больше покраснел, словно сдерживая себя, и угрожающе распрямился. Потом отец Голда с невероятной прытью вскочил на ноги.
— Он сказал «ебал»? — Его голос достиг пронзительной высоты писка спятившего цыпленка. — «Ебал»? Так он сказал? Я его убью! Я ему кости переломаю! Кто-нибудь, подведите меня к нему.
— Ну-ка, оставьте все Брюса в покое, — твердо приказала Ида, восстанавливая порядок. — Это мой дом, и я не допущу здесь никаких ссор.
— Вот это верно, — умоляюще протянула Роза, крупная, добрая женщина, переносица у нее была сплошь усеяна веснушками. — Брюс, наверно, все еще не успел отдохнуть.
— После поездки в Вашингтон, — сказала Эстер.
— В Уилмингтон, — сказала Белл.
Сид с видом победителя облизнул губы и потянулся за вторым куском медовой коврижки Гарриет.
В ТАКСИ по дороге домой Голда одолела изжога и головная боль. Он помнил давние семейные обеды, когда его отец царил в доме как полновластный тиран, тыча смертоносным скипетром своего пальца во всё, что пожелала его душа, и тогда все спешили подать ему то, что стояло поблизости от места, на которое указывал его палец. «Не это! Вот то!» — грохотал он. Он не снисходил до уточнений, а трудность задачи усугублялась тем, что он был слегка косоглаз. Отец Голда швырял со стола на пол чашки, блюдца, тарелки, блюда, пустые или полные, если обнаруживал на них крохотный скол или трещинку. «Я не ем с битого фарфора», — провозглашал он, как оскорбленный монарх. Голд помнил, как его мать и сестры заранее обследовали всю посуду, отделяя ущербные предметы, чтобы они не попались на глаза отцу.