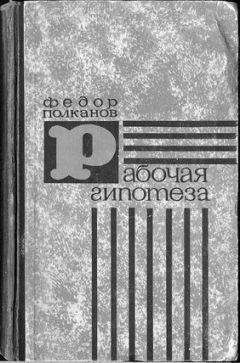– Выходит, облучая за шефа, вы забрасываете собственную свою тему. Диссертационную?
– Да, диссертационную. Но я не забрасываю: когда есть время – работаю.
– А чем заняты лаборанты? Ведь у Титова три лаборанта. Три! Почему не облучают они?
– О, у них много других дел!
Из этого разговора Леонид узнает немало для себя нового: оказывается, постановка работы в группе Титова совсем иная, чем у Шаровского, в лаборатории в целом. Он уточняет:
– Скажите, Дмитрий Семенович, сколько тем разрабатывает ваша группа?
– Четыре. Тема шефа, две совместные темы шефа с Николаевым и Зотовой и моя, диссертационная.
– К каким темам прикреплены лаборанты?
– Два у Титова и один у Николаева.
Леонид задумывается. У кого работа поставлена правильнее, у Шаровского или у Титова? Штатным расписанием предусмотрены две должности: старший лаборант и лаборант. Старший лаборант – это либо хозяйственник, либо же у него тема, за которую он отвечает. Просто лаборант – работник, помогающий какому-либо сотруднику. Шаровский на штатное расписание не обращает внимания: подавляющее большинство лаборантов у него «сидят на темах», независимо от того, какую зарплату они получают. В результате имеет место своеобразная уравниловка: одну и ту же по характеру работу выполняют и младшие научные сотрудники-кандидаты, и сотрудники без звания, и лаборанты обеих категорий. Делается это для того, чтобы одновременно шло как можно больше тем. Неважно, что отдельные работы выполняются из-за такой постановки дела немного медленнее, зато любая из поставленных проблем сразу же охватывается почти всесторонне. Такая система не каждому руководителю по плечу: нужно обладать работоспособностью Шаровского, чтобы справиться с целым ворохом тем. Так у кого же работа поставлена правильнее – у Шаровского или у Титова? Штатное расписание нарушают оба: Титов превращает сотрудника Мезина в своего лаборанта, Шаровский, наоборот, поднимает лаборантов до уровня научных сотрудников, своих соавторов. Лаборант, интересующийся наукой, скажет, что прав Шаровский; многие же сотрудники, лишенные лаборантской помощи, предпочтут работать в группе Титова, разумеется, находясь на положении Николаева, а не Мезина.
– Когда проходимец Корейко из «Золотого теленка» был юн, он бродил по городу, искал кошелек – вот тебе пример бездумного кладоискательства. В лучшем положении были Том Сойер и Гек Финн – у них были гипотезы: копать нужно там, где нечисто, или же куда падает тень от дерева в полночь. И если верить Твену, гипотезы им помогли!
– Не думала, что ты приравниваешь свое теоретическое детище к твеновской дохлой кошке!
– Не забывай, что эта кошка обладала лечебными свойствами, – сводить бородавки тоже наука…
Этот разговор Громов и Котова вели в день, когда Лиза вернула Леониду его диссертацию. Предстояло выяснить, согласится ли Котова работать с ним над неплановой темой; и чтобы облегчить себе задачу, Громов заговорил с ней на ее языке. Но она ответила совершенно серьезно: удел экспериментатора – к кому-либо примыкать. Гипотеза, эксперимент, теория – этой последовательности трудно избегнуть. Может ли она примкнуть к Лихову? Пропыленный сюртук теории радиотоксинов кажется ей безнадежно устарелым, слишком много вопросов эта теория оставляет без ответа. Брагин с его гормонами, Шнейдер и его черт те что? Трудно кому-либо отдать предпочтение.
– Есть прорехи и в твоей гипотезе, но у меня почему-то чешутся руки перевести ее на язык экспериментов. Потому, может быть, что в отличие от Брагина ты не столько болтаешь, сколько работаешь.
Иван Иванович Шаровский почти никогда не прибегал к выражениям иносказательным.
Но Раиса Мелькова услышала:
– Обратимся к терминам кулинарным. У хорошего блюда всегда должен быть хороший гарнир. Совсем плохо, если кто-нибудь вздумает заедать осетрину мороженым. И лучше всего, когда эта деликатная рыба подается в собственном соку.
Они сидели на «Олимпе», беседовали о том времени, когда Шаровский ушел из университета. Он не любил об этом вспоминать, но сегодня Раиса неумолима. Она понимала – в ней говорит настроение, но сделать с собой ничего не могла. Задавала вопрос за вопросом, тянула и тянула Ивана Ивановича за душу, пока он не разговорился.
Виною всему был Лихов – так думал Иван Иванович.
Еще в двадцатых годах, молоденькими ассистентами, они сумели увидеть будущее лучей Рентгена.
– Это не только средство диагностики! – не забегая вперед, говорил Шаровский, а Лихов уже тогда был склонен к «незаконным гарнирам»:
– Лучи эти помогут биологам перевернуть мир!
Сперва они действовали порознь, позднее же решили объединиться. Яков Викторович первый пришел к Шаровскому:
– Иван, мы должны работать вместе.
Но дальше пробивал стену энергичный и дотошный Иван. Он стучал кулаком в Наркомпросе, ломился в двери к университетским тузам, будоражил своим раскатистым баском заседания и собрания. В результате единомышленники, но представители разных отраслей биологии – физиолог Лихов и микробиолог Шаровский – создали общую лабораторию.
– Кто же у нас будет заведующим?
– Не все ли равно? Заведуй ты, Яков.
Тогда Ивану Ивановичу действительно было все равно: была бы возможность работать, а объекты вначале были разграничены очень четко. Но потом они перестали быть микробиологом и физиологом, ибо то, что они создали, было зародышем новой науки. Постепенно перемешались объекты; и скоро они уже сами не знали, где начинается Лихов и где кончается Шаровский…
Лаборатория их, маленькая, уникальная, долгое время находилась в тени, хотя они давно уже стали докторами наук. Потом наступил сорок пятый год, и не успел атомный пепел осесть над Японскими островами, как все увидели: эта парочка, оказывается, опередила свое время. И потекли к ним студенты и аспиранты, и выделило министерство специальные средства, и завалили вновь образованную кафедру приборами и оборудованием.
Яков Викторович был не прав, когда говорил, что в это время Шаровскому стало тесно в университете. Дело было и не в соперничестве, хотя, может быть, и пряталось у Ивана Ивановича в подсознании чувство собственной ущемленности: формально он до сих пор работал под руководством Лихова. И даже разный подход к эксперименту, который, в сущности, не был таким уж разным, хотя и вызывал у них постоянно горячие споры, не явился причиной разрыва.
Приклеивание ярлыков – когда оно было в большем ходу, чем в конце сороковых годов? И вот на одном из собраний «приклеил» кто-то из крикунов – ставленников главного радиобиологического крикуна Краева – ярлычок и к Ивану Ивановичу. Ярлык был не самым страшным, по тем временам и хуже могло быть – Шаровского назвали «буржуазным объективистом». Он долго смеялся, узнав об этом, но отвечать краевцам не стал:
– Зачем? За меня отвечают мои работы.
Постепенно шум начал стихать – взялись краевцы за кого-то другого, но тут выступил Лихов. Корректный и благожелательный, он вовсе не хотел обидеть Шаровского. Напротив, выступление было в его защиту: «Пора положить конец нелепому «шельмованию», – Лихов морщился, произнося этот «термин». – У нас нет радиобиолога крупнее Шаровского, и при чем здесь «буржуазный»? На кафедре два заведующих. Шаровский – наш лучший экспериментатор, хотя, правда, некоторая незначительная доля объективизма в его подходе к эксперименту есть…»
И вот это-то «хотя правда» решило дело. Вылилось ли оно из старых дружеских споров или же сказалась здесь давняя зависть к экспериментальным успехам друга? Во всяком случае, Шаровский Лихову не простил: он ушел, не хлопая дверьми и не поддаваясь ни на какие уговоры. И увел с собой половину сотрудников, разорвав надвое неделимое – научную школу.
– …Так-то, Раиса Петровна! – закончил Шаровский свой рассказ. – А теперь попробуем разобраться, в чем же заключается мой объективизм. Обратимся к терминам кулинарным… – И вот тут-то на свет появилась осетрина с мороженым.
Разговор этот Мелькова задумала давно. Она уже два года вынашивала идею создания радиобиологического института, где главная роль вновь отводилась содружеству Лихова и Шаровского – содружеству на новой, широкой основе. Но разговор откладывался: для того чтобы начать его, понадобилось сегодняшнее Раисино настроение.
Мелькова приехала из Энска за день до своего доклада и пришла прямо сюда, в институт. Когда проходила мимо дверей, за которыми, как знала она, работали Леонид и Лиза, ей очень хотелось зайти. Она даже подозревала, что именно для этого приехала раньше, выдумав для себя оправдания. Она остановилась, взялась за дверную ручку, потом, подумав, пошла дальше.
И вот она сидит на «Олимпе» и тянет из Шаровского то, о чем он предпочитает молчать. Она знает все, что он говорит, – все это общеизвестно, – однако не может не тянуть, не может не выспрашивать. Милый, милый Иван Иванович! Давно вылетела Раиса из вашего гнезда; так давно, что теперь вы даже не решаетесь ее оборвать, хотя нарушает она ваше спокойствие. Но ничего: кто знает, может, и приведет этот разговор к тому, о чем вы сами тайно мечтаете!