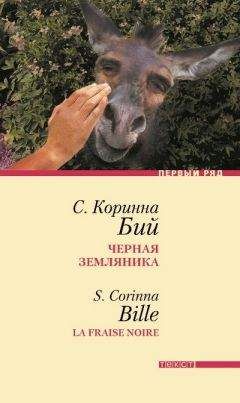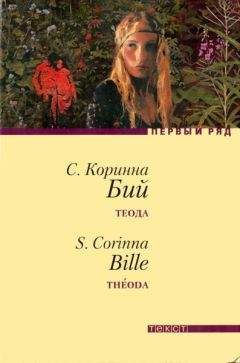Молодые парочки, которые встретились мне на дороге нынче утром, танцевали вокруг фонтана. Видно было, что они готовы плясать где угодно, хоть на лугу, хоть в лесу, и, уж конечно, будут веселиться и здесь, и в других местах и разойдутся по домам только под утро. Хотя еще не совсем стемнело, над их головами горела гирлянда электрических лампочек, и этот искусственный свет огрублял юные лица, делая их старше лет на пятнадцать. Я невольно улыбнулся при мысли о том, что утром видел их почти детьми, а сейчас они выглядят совсем взрослыми.
И вдруг я заметил Жанну, танцующую с Габриелем! Меня обуял гнев. Я ринулся к фонтану. Аккордеон смолк, и в тишине чей-то голос спросил:
— А где Анатаз?
«В самом деле, где же он?» — подумал я, устыдившись, что забыл о нем. Я исподтишка посматривал на Жанну, пытаясь поймать ее взгляд, но она упорно отворачивалась. С виду ее можно было принять за одну из юных девушек, которые походили на своих кавалеров, как сестры на братьев. Габриель обнимал ее за талию, крепко прижимая к себе. Наконец она высвободилась из его рук, и мне удалось заговорить с ней. Она подняла на меня свои карие глаза, одновременно и темные и сияющие, и даже не соизволила поздороваться.
— Я видел Анатаза в лесу, — прошептал я, — там, на карнизе, на самом верху, и он… Что с ним приключилось?
— Не знаю, — бросила она, — оставьте меня…
Оставьте меня. То же самое сказал мне и Анатаз. Я стоял, погруженный в печальные раздумья. Люди просят, чтобы я их оставил, а я, упрямец, досаждаю им! Неужели так и будет всю жизнь? Впрочем, что мне в этой жизни! И я ощутил неодолимое желание покинуть этот мир, где невозможно встретить родственную душу.
На следующий день Анатаза нашли в лесу, там, где я увидел его сидящим у обрыва. Он так и умер сидя. У него уже отросла длинная щетина, а на голове виднелась ранка, правда неглубокая.
— Пришлось отгонять воронов камнями, они так и прыгали вокруг него!
«У него случился удар, — объявил врач, прибывший снизу, из долины. — Он умер от внутреннего кровотечения». Но люди не поверили ему, все решили, что Анатаза убил какой-нибудь браконьер.
— Егеря — они все так кончают.
Разумеется, высказывались и другие подозрения.
— Зверей-то он охранял, а вот жену свою не сумел…
Я слушал и помалкивал. Я встретил человека, которому предстояло умереть, и ничего не понял, ничего не сделал для его спасения, ровно ничем не помог! Меня мучил стыд. Казалось, что я бесконечно жую «кляп» — так здесь называли кислые горные груши.
Я пошел прощаться с умершим. Анатаз лежал на широкой кровати, накрытый с головой кисейным покрывалом. Я пробормотал молитву, затем окунул веточку медвежьей ягоды в чашу со святой водой и окропил покойника. Жанна стояла на коленях в углу комнаты, не поднимая глаз.
— Надо же, вроде как печалится, — шептались соседи.
Я смотрел на Жанну. Теперь я смотрел на нее без трепета и словно бы издалека. Нашему роману пришел конец. Я навсегда расстался с ней. И больше не стану искать с ней встреч. Анатазу понадобилось умереть, чтобы встать между нами.
— Пламя, что кощунственное, что божественное, не отбрасывает тени, — неожиданно сказала Жанна сквозь рыдания.
И она указала на две свечи, горевшие у смертного одра.
— Мы ничего не видим сквозь их огонь, он скрывает от нас то, что предстоит перед ним.
Крестьяне, никогда не понимавшие рассуждения Жанны, слушали ее с тупой растерянностью, да и я в какой-то миг подумал: уж не сошла ли она с ума? Но потом вспомнил, что она и прежде часто держала такие речи, и констатировал, что горе не отбило у нее охоты к высокопарным невразумительным высказываниям. Мать Анатаза, старуха, которую я видел впервые, угрюмо покачала головой:
— Надо бы пойти объявить пчелам… коли не я, так кто ж это сделает?
Она облачилась в воскресный наряд и пошла на нижнее пастбище, где стояли два убогих улья, принадлежавших Анатазу. Потом уж я узнал, что она трижды постучала по каждому из них, восклицая: «Ваш хозяин умер!»[1] И накрыла их черной тканью.
Испуганное оцепенение, охватившее местных жителей, прошло не сразу. Еще много дней над деревней висела мертвая, гнетущая тишина. И если бы земля не требовала от людей ежечасных забот, мужчины и женщины так и сидели бы, затаившись, в своих жилищах. Над всеми нами витал неотвязный, тленный запах смерти, его не могли заглушить ни ветер, ни дым из каминных труб, ни аромат скошенной травы. Куда только подевались весело перекликавшиеся голоса, серебристые промельки топоров, разрубавших толстые поленья?
Теперь вдову Анатаза часто видели на улице — печальную, одетую в траур и такую благонравную, что с нею здоровались все соседи. Она горько оплакивала мужа, и ей даже начали сочувствовать. Потом она сообщила, что собирается уехать из деревни «вниз». Квартиру она оставляла за собой, но все имущество хотела продать. А еще она намеревалась работать в какой-нибудь миссии, занимавшейся лечением прокаженных:
— В жизни так бывает: когда на тебя свалилось несчастье, больше уже ничего не боишься. Я хочу нести добро людям.
Женщины слушали ее с недоверчивым восхищением. А вот я предал Анатаза, бросил в беде — по небрежности, по легкомыслию — в его смертный час.
— Почему вы нам не сообщили о нем в тот же вечер? — с упреком спросил меня деревенский староста.
Я и сам не знал почему. Я уже ничего больше не понимал и, главное, не понимал теперь, как я мог любить эту женщину. Страсть к ней вдруг соскользнула с меня, как соскальзывает накидка с плеч.
— Но Анатаз ни на что не жаловался! — возразил я. — Он только сказал мне: «Я слежу… Оставьте меня».
— Да… верно и то, что в последнее время он снова начал попивать…
И староста бросил на меня недоверчивый и вместе с тем понимающий взгляд.
Жанна носила вдовье платье цвета «антрацит», и затейливые кружева на воротничке и манжетах свидетельствовали о том, что она посвятила этому наряду немало времени и стараний. Я был вынужден признать, что она похорошела, но уже не испытывал к ней прежнего влечения и не подходил близко. А при встрече на улице избегал даже ее тени.
По вечерам, когда жители деревни собирались на посиделки, я все еще слушал ее. Она говорила о смерти и оплакивала Анатаза. Произносила со вздохом это слово «смерть» и закрывала глаза. Она уверяла, что потусторонняя жизнь бесконечно печальна и однообразна, что душа, безжалостно разлученная с телом, неприкаянно блуждает в ледяном сумраке, похожем на хмурые ноябрьские дни. Она не верила в райское блаженство.
— Все радости нам даруются в этом мире, и наслаждаться ими нужно здесь. Потом будет слишком поздно, — говорила она.
— Верно, потом будет слишком поздно каяться, — подхватывали женщины, толковавшие ее слова на свой лад.
Я же пытался убедить ее, что настоящая жизнь ждет нас лишь за гробом.
— Нет-нет, — упорствовала Жанна, — только здесь, на земле, нам дана власть над жизнью, а там ничего этого уже не будет.
— А что вы скажете о несовершенстве, таящемся в каждом из нас? — спрашивал я.
— Я бы не стала менять человеческую природу, — отвечала Жанна и добавляла: — Вот увидите, как мы будем обездолены, когда умрем; тогда-то мы и станем вконец обездоленными.
Тем временем на нас снизошел странный покой: окружающий мир словно бы вдруг замер. Только изредка проходила мимо черная, как ночь, корова с лоснящимися боками и широко расставленными рогами; колокольчик на ее шее громко дребезжал, и это был единственный звук, нарушавший горную тишь. На окрестных лугах селяне стригли овец. Старухи, которым помогали детишки, склонялись над животным, лежавшим со связанными ногами и похожим на большую голую птицу. Повсюду стрекотали большие ржавые ножницы; старухи собирали шерсть в кучи, обирая ее с гладких розовых овечьих боков.
Коровьи стада уже вернулись с горных пастбищ; впереди шествовала их королева, и на тропинках, где копыта разрыхлили землю и подняли облака пыли, валялись пышные ромашки и ленточки, упавшие с их «корон».
Жанна почти не появлялась на люди: теперь она была занята тяжбами с заимодавцами Анатаза и ей приходилось часто ездить из деревни «вниз», в долину. Я и не пытался ее увидеть. «Моя любовь умерла», — твердил я себе. Но было ли это правдой? Если уж любовь существует, то не может она умереть так быстро. Еще какое-то время она продолжает жить своей, отдельной от людей жизнью, как сила, оставшаяся без применения, как свет, ищущий, кого бы озарить. Такой я воображал ее себе. И в своей слепой наивности уповал на то, что обрету такую любовь в потустороннем мире, свободную от всех земных тягот, растворенную в Боге, идеальную и безгрешную.
Я продолжал бродить с утра до вечера, а то и ночами по лугам и лесам, утратившим теперь связь с питавшей их землей. Я проходил мимо крестьян, пасших коров и коз, словно мимо давно умерших пастухов, по-прежнему охранявших свои давно мертвые стада. И безмолвно приветствовал их, чувствуя, что становлюсь наконец одним из них, и наслаждаясь этим покоем после своих летних треволнений. Однажды какая-то девушка сказала мне: