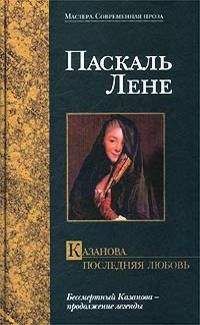Капитан и Полина прервали беседу и подошли к остальным. Казанова, взяв палку, на которую г-жа де Фонколомб опиралась, передвигаясь самостоятельно, подвел ее к столу и сел по правую руку от нее. Полина и капитан сели напротив, аббат — в одиночестве в конце стола.
Несмотря на подобное расположение за столом, вскоре выяснилось, что Полина и капитан вовсе не отказались от намерения поужинать наедине. Они обращались только друг к другу, нимало не интересуясь, что говорили остальные. В своих нарядах и со стародавними выражениями лиц г-жа де Фонколомб и шевалье де Сейнгальт и впрямь выглядели потерянными, будто жизнь их уже покинула, а смерть еще не забрала.
Гостья старалась как могла развлечь Казанову, чувствуя, как ему тяжело от того, что он не в силах помешать галантной беседе красотки и кавалерийского офицера. А между тем речи, которыми те обменивались, принимали все более интимный характер, постепенно превращаясь в нежное воркование, так что ревнивцу приходилось напрягать слух, чтобы хоть что-то расслышать.
С ним обходились так, как он сотни раз обходился с другими: ему была отведена роль выжившего из ума старикашки, и он не мог не признать — настало время выучить и эту роль. Актер, которым он всегда был, не мог не знать, что однажды Арлекину придется примерить на себя платье Арнольфа или Геронта, если он не хочет быть освистанным публикой.
Склонившись к нему, г-жа де Фонколомб проговорила ему на ухо:
— Помните о том, что вам дано было стократ больше любви, чем этому резвому капитану.
— О да, я слишком хорошо помню об этом!
— Вы до сих пор любимы в Вене, Париже, Мадриде, везде, где вы побывали.
— Везде, где я побывал, — повторил Казанова с грустью, — да, я помню, что много любил, что я жил, и это тем менее меня утешает, чем больше я чувствую свое угасание.
— Вы находите, что стареть так трудно?
— Да, сударыня, ведь старость приходит и заставляет нас сожалеть, что мы мало наслаждались, когда могли. А к чему мудрость, которую она дает, раз дважды жить не суждено?
~~~
Была полночь, когда незадачливый философ добрался до своей комнаты. Капитан не был настроен так скоро покинуть общество, и Полина готовилась к нежному прощанию. Верный Розье увел в ее покои г-жу де Фонколомб, аббат уснул в своем кресле, и Казанова почел за лучшее ретироваться. В кабинете было место лишь для двоих, они знали свои роли и не нуждались в суфлере.
Войдя к себе, он замер на миг перед большим зеркалом, в котором мог видеть себя целиком. Сняв парик, он подмел им пол, склонившись в глубоком поклоне перед почти лысым стариком, которого видел перед собой. Затем неспешно, словно каждое движение давалось ему с трудом, отделался от тряпья, которое составляло отныне все его состояние, и не стал даже поднимать с полу шелковый камзол и шитый золотом жилет.
Водрузив на стол канделябр с одной зажженной свечой, он повалился на постель в рубашке и кюлотах.
В неверном трепещущем свете свечи Джакомо отдался своим мыслям и стал потихоньку падать в пропасть сна и забвения — временное пристанище, которое старики, одержимые сознанием своего физического и умственного упадка, обретают перед тем, как уже навсегда покинуть этот бренный мир.
Но и в этом временном пристанище слишком многое еще отвлекало от покоя. Неужели ему так никогда и не избавиться от одержимости женщинами, которая заставляла его слишком быстро жить, от яростной потребности наслаждений, толкавшей его на неутомимую гонку по всем дорогам Европы, от воспоминаний об упоительных мгновениях?
Он слишком хорошо представлял себе любовное собеседование, ведущееся неподалеку от него. Остались ли Полина и де Дроги в кабинете? Воспользовался ли капитан сном аббата, чтобы победоносно овладеть укрепленным пунктом, таящим сокровища? Или же повлек собеседницу в парк, на травку, где куда как удобнее предаваться любовным утехам? Та, в которую он так сильно, так безнадежно влюбился, была всего в нескольких шагах от него и… в объятиях другого. Эти несколько шагов не дано было пересечь ни одному смертному.
Предаваясь мрачным мыслям, он вдруг услышал, как кто-то скребется в его дверь. Он сел на кровати, разбуженный надеждой, и увидел, как приоткрылась створка.
Легкая, как струйка пара, тень, казалось, рожденная самой темнотой, пролетела по комнате, скакнула в его постель и, прижавшись к нему, стала искать его губы.
Изумленный Казанова узнал Тонку, дочь садовника, девушку, которую он прихоти ради два года назад затащил ночью в большую оранжерею, дабы среди экзотических цветов, которые граф Вальдштейн выращивал в своем поместье, сорвать первые плоды девственности.
Туанет, или Туанон, как звал ее Джакомо, природа наделила умом не больше, чем томаты или груши, которые она собирала, помогая отцу. Она говорила на жаргоне, распространенном среди крестьян Богемии, в котором Казанова ничего не смыслил. Но малышка была грациозна и свежа, как розы в саду, и так же сладко пахла ее кожа, оставшаяся светлой и нежной, несмотря на солнце и непогоду. Ее бы писать: тонкая талия, длинные ноги, маленькие руки. Улыбка придавала ее круглому лицу всегда удивленное и как бы вопрошающее выражение, которое могло сойти за понимание. На беду, она была об одном глазу, когда-то потеряв другой по неосторожности, и вынуждена была носить повязку.
В свои восемнадцать лет она выглядела как девочка, но не потому, что природа не наградила ее ямочками и округлостями, а потому, что, расщедрившись на ее плоть, не дала ей разума. Она умела лишь слушаться, и то, если с ней разговаривали ласково — тогда она послушно выполняла все, что от нее требовали. Если же ее ругали, ее единственный глаз наполнялся слезами, губы поджимались, и у нее становился такой же ошеломленный и окаменелый вид, как у статуй на мифологические сюжеты, расставленных вдоль террасы. Казанова не мог устоять перед искушением ласково заговорить с этим дитя, и она послушно последовала за ним. Старый сатир вкусил тончайшего наслаждения, забавляясь ее полнейшей наивностью. Туанон отдалась ему с увлечением, еще более трогательным от того, что она и не поняла даже, что произошло, и выказала неподдельное расположение как к тому, чтобы получать ласки, так и к тому, чтобы дарить их. Та, которой не приходилось обычно слышать больше нескольких слов, да и то не Бог весть каких, тонко и даже как бы с умом отдавалась чувственным удовольствиям.
Своим простодушием эта простачка и смогла внушить закоренелому развратнику желание, чуть было не заставившее его испустить дух.
После той ночи Туанон и ее наставник по распутству больше не виделись, ни в оранжерее, ни в каком другом месте, но не потому, что она пресытилась тем, что открылось ей без труда, и не потому, что Джакомо счел, что ему больше нечему ее обучать. Просто несколько дней спустя в замок заехала княгиня Лихтенштейнская, мать графа Вальдштейна, и увезла с собой несколько книг из библиотеки, часы, копию которых хотела заказать часовых дел мастеру в Дрездене, и Тонку, чтобы заменить ею умершую родами прислужницу в кухне.
Казанова счел это новым ударом судьбы и был поначалу как младенец, которого лишили соски. Затем забыл о дочери Полифема[15], ибо вся его мудрость как раз в том и состояла, чтобы быстро забывать. Ни разу не вспомнил он о той ночи. Сотни иных созданий, прекраснее и удивительнее, оспаривали право жить в его памяти, как когда-то оспаривали право его поцелуев и ласк.
~~~
И вот теперь этот призрак в рубашке из грубого льна и чепчике из хлопка, с повязкой на глазу покинул лимбы[16] и свалился, да не на грядки с латуком, как ему полагалось, а прямо в постель, и кого? — самого Джакомо Казановы! Она ластилась к нему, как делал бы котенок или песик, что-то нежно шептала на своем гортанном наречии. В нетерпении маленькая вакханка трясла старика, не привыкшего сопротивляться подобным наскокам, бесцеремонно пыталась расшевелить его, но, застигнутый посреди своих невеселых дум, он воспринял это с недовольством и отстранялся как мог от ее алчущего ротика.
Во время завязавшейся межу ними борьбы рубашка Тонки задралась, открыв ноги и рыжее руно, прикрывавшее вход в святилище. Но и эти чарующие видения не вдохновили Джакомо, которого с двухгодичным опозданием охватило отвращение к самому себе.
Ну как можно было позариться на этакую невинность? Как можно было пасть так низко? Ведь он любил в женщинах прежде всего их ум, умение вести беседу, красоту лиц и уж потом тело, да и то лишь с целью проникновения в секрет их душ.
Малышка не понимала, почему тот, кого она любила со всей искренностью и силой разожженного аппетита, не отвечает на ее ласки. Даже самая неразумная из дев способна понять, хороша она или безобразна, привлекательна ли для мужского пола. Тонка, несмотря на свое слабоумие, повязку на лице, не была лишена привлекательности. Говорят, подобные создания постоянны и верны в своих привязанностях, компенсируя малое количество мыслей живостью впечатлений и силой воспоминаний о них. Для Тонки два прошедших года промелькнули незаметно, как одно мгновение, скорее всего она вообще не имела понятия о беге времени и о его необратимости.