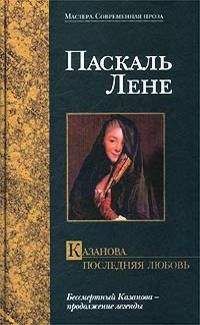До вечера сидел он не шевелясь, напряжением ума обратив себя в изваяние, не зная, на что решиться, и думая только о том, как отправить девчушку к ее отцу, в хижину в дальнем углу парка. Но челядью заправлял Шрёттер, и пришлось бы обращаться к нему, а тот спал и видел, как бы навредить своему врагу библиотекарю.
От такой каверзы со стороны судьбы Казанова сперва не хотел выходить к ужину, а потом стал подумывать о том, чтобы не показываться вовсе и оставаться в своей комнате до отъезда гостей, намеченного через несколько дней.
Смеркалось. Он поднялся зажечь свечи в канделябре на письменном столе, одновременно подумав, что не помешает подвигаться: это придаст живости его уму.
На столе на папке марокканской кожи лежало два письма.
~~~
Г-жа де Фонколомб отдала распоряжение подавать ужин в китайском салоне, замечательном тончайшей росписью стен на мотив арабесок, бронзовыми часами в виде пагоды и двумя курьезными комодами — один покрытый красным лаком, другой — черным.
Казанова извинился за то, что всю вторую половину дня не выходил из своей комнаты, сославшись на несварение желудка после обеда в немецкой харчевне.
— Вы и впрямь были необычайно бледны, и ваш друг де Дроги серьезно подумывал, не послать ли за врачом, — молвила Полина.
Ее лукавый вид ясно указывал на то, что она не верит в его плохое самочувствие: ох и посмеялась она, должно быть, над его физиономией, когда он увидел капитана. Но больше всего он боялся, что у нее появилась еще одна причина потешаться над ним — история с Туанет. Как случилось, что малышка оказалась рядом с ней? Было ли это очередной пакостью со стороны Фолькирхера? Или Шрёттера? Или кого-то еще из многочисленных недругов, которыми он был окружен в замке и которые вели себя гнуснейшим образом еще и оттого, что были в зависимом положении?
Он не стал мучиться всеми этими вопросами, зная по опыту, что все тайное становится явным. Полина между тем радостно поведала ему, что выступление полка Вальдек откладывается на несколько дней, и у них будет возможность часто видеть капитана.
Казанова подчеркнуто перестал обращать внимание на гувернантку и вел беседу исключительно с ее госпожой и аббатом. Было время, он мог проиграть до двадцати тысяч ливров в фараон, бириби, сохранив при этом невозмутимое выражение лица. Он считал, и не без оснований, что достоинство человека, утратившего что-либо, в том и состоит, чтобы сохранить полную безмятежность, и потому в этот вечер выказал чудеса обходительности и светскости, став настоящим чичисбеем для г-жи де Фонколомб.
После ужина аббат Дюбуа, пожелавший выиграть еще несколько дукатов у пожилой дамы, предложил партию в кадриль. Игра продолжалась до полуночи. Шевалье поведал, что получил письмо от княгини, матери графа Вальдштейна, намеревавшейся проездом в Берлин остановиться в Дуксе и просившей г-жу де Фонколомб продлить свое пребывание в замке, дабы она могла с ней познакомиться.
Рассказал он и о содержании второго письма, от некой Евы, обязанной своим рождением не божественному слову, а некому иудею по имени Жак Франк, основателю знаменитой секты.
Эта Ева обладала такой красотой, что, глядя на нее, верилось тому, что она о себе говорила — будто ей предстоит стать матерью нового мессии. Казанова представил ее как свою «знакомую», которая консультировала его по вопросам алхимии или по тому или иному темному месту каббалы. В письме, доставленном из Лейпцига, сообщалось, что она прибудет через два-три дня.
~~~
Еве было двадцать восемь лет. Она была еще прекрасней, чем молва о ней: великолепно посаженная голова производила царственное впечатление, несколько умерявшееся всегдашней приветливостью лица, движения были грациозны, некая величественность исходила от всей ее фигуры. Казалось, что в ней и впрямь заложено что-то божественное и многообещающее и однажды она это докажет, совершив нечто из разряда чудесного.
Рослая от природы, она выглядела еще выше из-за манеры вести себя с большим достоинством. Черные завитки волос спадали на всегда оголенные мраморные плечи. Огромные глаза были бездонны, как сама ночь, в которой блистают звезды бесчисленных и переменчивых страстей. Даже когда она улыбалась, несколько вытянутый овал лица придавал ей важный вид. Ее ноги и руки также были длинными, но не чрезмерно, и придавали ее движениям плавность, которая как нельзя более сочеталась со всей ее горделивой осанкой. Нос был необыкновенно тонким, но не орлиным, рот маленьким, губы прекрасно очерченными, зубы правильными. Но ничто не могло сравниться с безупречностью ее шеи и груди, прекрасной талией и роскошными бедрами.
Кисейные или тюлевые платья на ней были еще легче тех, что на Полине. Никто не взялся бы оспаривать истину, что красота ее ярче солнечного света и потому она слегка прикрывала ее, дабы созерцающие не ослепли.
Если в ее зачатии и не была замешана субстанция божественного происхождения, она тем не менее обладала качествами, присущими королевам или же по крайней мере любовницам суверенов. Поговаривали, что император Иосиф[19] самолично воздал ей должное.
Однако красавица была всего лишь дщерью раввина, впавшего в шарлатанство, и положение ее было подвержено всем превратностям кочующего образа жизни, а потому можно было за двадцать флоринов занять место императора Иосифа или же самого Бога и поучаствовать в таинстве зачатия.
По пути в Теплице или Карлсбад, куда она отправлялась в сезон, чтобы подцепить там очередного простофилю, Ева божественная порой останавливалась в Дуксе, чтобы повидаться с Казановой, которого считала непревзойденным мастером по части самозванства. Она выражала ему свое восхищение, а он со своей стороны свидетельствовал ей свое самое горячее уважение. Таким образом, начиная с Тонки, дочери садовника, и кончая Евой, претендующей ни больше ни меньше как на роль матери еще одного мессии, Казанова не переставая доказывал, что верит в божественную природу женщин. Этот подлинный мудрец умел найти и ангела, и зверя в одном и том же человеческом существе. И его вовсе не отвращало, что зачастую зверя было с избытком, а ангел, как правило, был падшим.
~~~
В первые же минуты знакомства г-жа де Фонколомб весьма дружелюбно отнеслась к этой весьма способной особе, умеющей одним своим чарующим голосом вызывать духов умерших и заставлять их высказываться, да если бы только высказываться! Ева представлялась как авантюристка и нисколько не скрывала, что готова одурачить любого. Но подобная вызывающая откровенность лишь усиливала ее притягательность, а большая часть жизни г-жи де Фонколомб прошла во времена и в обществе, где шарлатаны были привечаемы сильными мира сего, которыми беззастенчиво пользовались, от самих от них требовалось лишь одно — делать свое дело талантливо. Это общество ныне лежало при смерти от того, что слишком часто ставило свои привилегии на кон за карточными столами, не имея иного мерила, чтобы различать добро и зло, полезное и ненужное, подлинное и ложное, кроме скуки, требующей выхода.
Полина сразу заняла по отношению к красавице каббалистке враждебную позицию. Она не допускала, что можно оказать хоть какую-то любезность существу, лживость которого написана у него на лбу. И повела себя в общении с ней столь пренебрежительно, делая вид, что не видит ее и не слышит, что в конце концов получила замечание от своей госпожи.
— Эта продувная бестия умеет лишь одно — заносить заразу в умы бесполезными предрассудками, которыми торгует. Сама ее красота, внушающая доверие к ее словам, — опаснейший яд.
— Этот яд еще никого не убил, насколько мне известно, но обыкновенно приводит в состояние приятного опьянения. Наш дорогой Сейнгальт когда-то уже пригубил его и, возможно, захочет отведать еще раз.
— Неужели бедняга будет ее первой жертвой?
— Думаю, так и случится, и при этом он не лишится жизни и даже не потратит попусту время, как с вами.
Г-же де Фонколомб было очень не по душе, что Полина презирает Джакомо только по той причине, что он в нее влюблен. Но она догадывалась, что приезд волшебницы породит некую интригу и гордячка получит урок.
— Этот человек настолько самовлюблен, — продолжала молодая женщина, — что увлечется самой безобразной или глупой особой, лишь бы любоваться своим собственным изображением в ее глазах, как в зеркале. Можно ли без презрения относиться к подобному нелепому человеку?
— Все это не более чем игра, дитя мое, но я вижу, вы неспособны обучиться ей.
— Просто мне это не нужно.
— Вся ваша революция и все ваши санкюлоты уничтожат сами себя из одной лишь невообразимой серьезности.
— Нет ничего более серьезного, чем свобода, сударыня, и я буду биться за нее до последнего вздоха.
— О! Лучше живите, дорогая Полина: серьезность, о которой вы толкуете, — враг свободы, ибо ведет к фанатизму.