В четыре снег не пошел, холодает, и холод остается на весь день, хотя небо по-прежнему серое и солнца не видно. Будь я там наверху главным, приказал бы снегу пойти снова, потому что решено уезжать — всем, кроме крестьян. Ночью по лоткам сошли лавины, и теперь, когда стало холодно, ниже нуля, можно отправляться без особых опасений, рано утром.
Я слезаю с кровати, прислушиваясь к голосам уезжающих. Линда, с лыжами, какая-то другая. Их прощальные крики разносятся в сухом утреннем воздухе. Холод студит мне ноги, они у меня белые, как у стариков.
Сегодня воскресенье, и сейчас, когда Линда уходит, я думаю о других выходных, о послеобеденных часах в городе, где мы встречались. Антонио прокладывает лыжню, Серджо смеется, Ванда, Линда и Верена весело разговаривают и поднимают руки в шерстяных перчатках в знак прощания. Иларио замыкает шествие, они скользят по снежинкам, идут в весну. Не ушли семьи старых крестьян, жандарм, я.
Теперь я могу уже и закрыть окно, они исчезли за холмом, и остается только след от лыж.
Входит прямоугольник холода, толкает меня в грудь. Я могу снова забраться в смятые, теплые простыни, пропахшие моим мужским запахом, могу остаться здесь, посчитать сучки в потолочных досках, могу походить туда-сюда, как тетка Марианджелы, которая, кажется, всегда ищет ключ от дома. Внизу, на кухне, Диониджи смотрит на меня так, как смотрят на скорбящего по кому-нибудь, чтобы подбодрить. Говорит, что траву-то мы всегда косили, всякий год. Это да, но надо было мне родиться мулом.
В десять месса внизу, в Ностенго.
Все мы становимся в ряд, как козы. Голоса перебегают с одного края вереницы на другой в разреженном воздухе. Но после холма, который отнял у меня Линду и который теперь отбирает у нас удобный обзор домов, наступает продолжительная тишина, и слышится только шуршание лыж по снежинкам. Как-то раз двое, разговаривая, обрушили лавину. Голос одного, несомненно, подтолкнул гору, и она потом вся сотряслась, опрокидывая деревья и камни. Никто из нас сейчас не смотрит на гору; кто-то боится, что даже если слишком сильно дышать, дыхание сдвинет морену сбоку от нас и что, просев, горстка снега может вызвать другие падения, стронув с места миллиарды и миллиарды оседлавших друг друга крупинок, как в бесконечной игре в домино: от крупинки снега до горы.
Довольно давно уже мы жили, как язычники, не укрепляясь мессой. В прошлые воскресенья, в девять, парнишка обходил дома, сообщая, что вскоре будут читать розарий. Снег похоронил под собой и колоколенку нашей церкви (это мы называем ее церковью, приезжие — часовней), так что колокол молчал много времени, как будто каждый день была страстная пятница. Читали три веночка, литании с коротким завершением из особых молитв. Молились все, серьезно, и мужчины тоже, которую обычно, когда тепло и сухо, не ходят на розарий, а если кто-нибудь идет, то это потому, что его посылают женщины — у них-то всегда найдется особая причина для такого распоряжения: месяц Богоматери, или Розария, или Адвент, или скот на выпасе в горах, или чтобы сено не загорелось; и мужчина не столько молится, сколько губами подхватывает молитву женщин, словно кое-что, например слова глубокой приязни и тем более любви, он и вымолвить не может: самое большее, он вполголоса вторит женщинам.
В церкви, над алтарем, — картина со Святым Сердцем, которому оттуда видно все. Когда-то эта картина меня по-настоящему пугала.
Теперь Святое Сердце смотрит на меня поверх букетика из искусственных цветов благосклоннее, кротче; даже немного рассеянно.
Церковь в Ностенго по сравнению с нашей выглядит как собор. Я начинаю бояться, что свод, опирающийся только на стропила, без единой колонны посередине, может рухнуть в любую минуту, что снежная масса, тонны и тонны на крыше, вот-вот раздавит воздух в пределах церкви: шар, который сдуется, и все сплющится от удара о землю, свод об пол, — а мы внутри, как мыши.
Предстоятельница поет гимн, подходящий к нашему случаю, об израильтянах в египетском изгнании. Почти никто его не знает, поэтому поет она одна, голос у нее очень высокий — вот пронзит, как булавка, шар, в котором мы все находимся. Не понимает, что делает. Проповедь длиннющая — а может, это потому, что мне страшно сидеть тут в церкви? А не следовало бы бояться: ведь какая была бы прекрасная смерть, отправились бы по праву к херувимам и серафимам; проповедник говорит о смерти, которая приходит, как вор, о том, что Господь уже мог бы наказать нас в любой момент сто раз. Мы это заслужили. И если Он этого не делал, то исключительно по своей благости и по своему милосердию, по своей бескрайней любви. Но пора покаяться и молиться, и Бог, освободивший Иону из чрева кита и Даниила из львиного рва, избавит и нас от лавины. Но не надо глупо злоупотреблять (как мы) благостью Божьей, и не надо быть неблагодарными. И всегда лучше быть готовыми к достойной смерти, на всякий случай. Наконец, даже посреди этого испытания, ибо это именно испытание, мы должны благодарить Господа за то, что Он создал нас и сделал христианами.
Затем священник объявил, что после мессы будет исповедовать только нас, тех, кто из верхней долины. Вот уже многие недели мы пребываем в опасной компании своих смертных грехов. Не знаю, в чем будут исповедоваться старые женщины из нашего поселка; каждую выдали замуж в восемнадцать лет за человека, один Бог знает сколь нежеланного для них, заставили рожать по ребенку в год, пока они могли это делать, чтобы потом отправлять детей в мир и вечно о них тревожиться; их принуждали работать тяжелее кобыл, когда приходила пора возить навоз на луга; и всегда-то в жизни они во всем виноваты: ведь сначала даром хлеб едят, а потом, когда замуж пора, отцы на них глядят, как на воровок, дочери в доме — хуже, чем счета и бумажки налоговые, так что если они в чем и виноваты, то в том, что на свет родились, как говорит Сара, когда устает слышать подобные разговоры; ну в чем им исповедоваться — спрашиваю я себя, — таким непорочным в этих большущих передниках, чистых, как их души, в праздничных черных одеждах, которые они надевают на большую мессу или когда нужно спуститься в городок, чтобы измерить давление или поговорить с юристом? Я исповедоваться не буду, хотя, когда возглашают «Sanctus»[7], чувствую, как осыпается моя храбрость под треньканье колокольчика, сотрясаемого служкой так, словно он собрался воскресить этим звуком Христа. Если бы я мог заставить его замолчать. В детстве на Пасху и я не раз тряс изо всех сил колокольчики вместе с другими ребятами у подножия алтаря, меж тем как священник возглашал, раскинув руки, воскресение Христово, и казалось, что наш неудержимый концерт сорвет крышу с церкви, а не обрушит ее! — и что откроется кровля, а над ней — небо в водопаде света.
Небо, на которое мы смотрим после службы, — такое же, как в другие дни, и потихоньку начинает хмуриться, так что мы не откликаемся на предложение знакомых из Ностенго выпить горячего пунша или кофе; снова выстраиваемся вереницей и проворно, молча, возвращаемся к себе наверх.
Ассунта спрашивает, разливая суп по тарелкам, что рассказал священник в проповеди. Рассказываю я. Кто-то говорит, что в подобных обстоятельствах он мог бы сказать другое слово, что не до конца вник в нашу ситуацию. Старый учитель добавляет, что этот священник и итальянского-то не знает, путает местоимение «что» и союз «что».
Лука, у которого, если верить его бабушке, чувства пока еще не народились, аж привскакивает, заявляя: коль мы можем в любую минуту умереть, самое лучшее — отбросить всё, есть и пить, пока не лопнем.
Бабушка кладет ложку в тарелку и бросает на него такой взгляд! Так что дальше мы продолжаем есть в тишине. В окна видно, что на улице из воздуха уходит свет. Спорю, в четыре опять пойдет снег; хочется плюнуть в тарелку. Выхожу присмотреться к небу, поглядеть, что оно собирается нам послать. Женщины идут читать повечерие, они не устают молиться (молятся больше за нас, чем за себя).
А это означает, что на дворе Великий пост и что карнавал нам будто кто-то взял и вычеркнул из календаря: ни масок, ни костра, ни шалой козы. Теперь мы и в карты перестаем играть, потому что во время поста не играют, хоть и неправда, что в противном случае они прямо в руках загорятся. Однажды (сколько уж лет прошло?), в день, когда меня распирало от злости, я попробовал, взял в руки несколько карт, помню придурковатого червового валета, увядшую даму пик и бубнового валета, уставившегося во что-то своим единственным глазом, из-за которого — вот счастливчик! — он один был признан негодным к строевой. Сломанные зубы надо сразу же бросать в огонь, а не то, как попадешь в Чистилище, тебя пошлют обратно на землю искать их, а не найдешь, пеняй на себя. Моя мама довольно долго позволяла нам идти этой дорожкой. Но однажды вечером (в ту пору мне было тринадцать), когда ей очень нездоровилось и она была бледная как полотно, она сказала, что я не должен верить подобной ерунде. Я посмотрел на нее долгим взглядом: я ведь уже припрятал два зуба, в двух глубоких дырах у металлической сетки курятника, вместо того чтобы бросить их в огонь. Вот смешно-то было представлять себе, как можно провести этих из Чистилища; возвращаешься без всякого риска, остаешься у нашего курятника сколько хочешь, отсыпаешься хорошенько, если уж там внизу придется сильно помучиться. Эх, кабы мне так же научиться не верить женщинам — Линде и всем прочим, которые выедают тебе сердце.
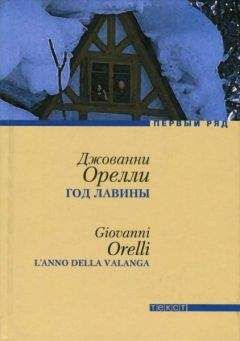


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

