Думал, что уже не слушаю, но вдруг слышу, она в телефон этак урчит, не открывая рта, как распаленная кошечка, мяукает, желая потереться промежностью, — точно так урчала мне Линда: а что, если другим тоже? Если сейчас кому-нибудь урчит! А я-то думал, что это такой уникальный дар Линды, существующий только для меня, неповторимый, как ее голос, и вот, оказывается, это немудреное и общее для всех женщин оружие. Я всегда так слепо верил в уникальность наших жестов, в их неповторимость и недаром при воспоминании о бабушке сразу представляю, как она говорит моей маме, что, глядя на меня, сидящего перед ней на скамье, подперев голову рукой, она увидела руку своего мужа, моего деда, ну те же руки (говоря это, она сильно сжимала в своих крест), и те же движения: запястье, пальцы (и форма головы, которую я вижу в зеркале, та же? и мое живое лицо, привитое к черепу моих прадедов?). Эти исключения из неповторимости жестов и внешности дарят встречи по вертикали, через поколения, и еще — невыразимое удовольствие чувствовать, как ты немножко возрождаешься и немножко продолжаешь жить в сыновьях своих сыновей (мой отец говорит «прирастать листьми», вместо «прирастать детьми»). Но сейчас прелестный манок Линды, моей кошечки, — в устах Марианджелы, да что там — в устах всех женщин мира, у которых течка!
Внезапно, просто, как будто вся гора обрушила на меня свою громадную ширь снегов; так же ясно, как то, что вот эта бритва — бритва: Линда никогда меня не любила, ни минуты, даже там, на сене. В этот самый миг она ужинает с другим в городе, а потом они займутся любовью. Вижу ее отлично. Но не ужасно ли, что незатейливое сладострастное мяуканье Марианджелы породило во мне уверенность, что я покину этот поселок? Бегство или смерть. Что ж я, так и буду сидеть тут и вечно поминать необратимое поражение?
Голосом, который уже не тот мой голос, что был в другие дни, я говорю Марианджеле: «Учти, девочка, я тебя слышу». Она улыбается мне, продолжая слушать. Она еще не положила трубку, а я уже подхожу к ней со спины, обвиваю ей талию руками, нажимаю пальцами и отпускаю, целую в шею, долго, принуждаю ее завязать с этим дурацким телефоном. Она кладет мне щеку на плечо.
— О Джоната, когда же кончится эта зима?
Она светлая и грустная.
— Когда кончится эта зима? — повторяет она, сжимая мне предплечья. — Кончится, но прежде нас на тот свет отправит, меня и тебя, и всех. А любимая есть у тебя?
— А как же. Есть одна, еще с колледжа.
Так, если соврать, то и для нее это другое дело, мы можем выстроить себе обман, который ничуть не уязвит нас: она для меня — вариант женщины Линды, а я для нее кто? Человек из телефона? Микеле, Марко или Раффаеле в каком-нибудь краю, где? У нее в голове или в сердце? А может, Антонио, Серафино или кто еще? Так что она уже порывисто подставляет мне губы, мы подталкиваем друг друга, целуясь, к кухне, кусаемся, распростершись на полу, все то время, пока другие преклоняют колени на скамеечках в церкви и молятся, как они говорят, о живых и о мертвых.
Ночью, в окне, это плотность темноты, легко представить себе, что, пролейся внезапно свет, глазам открылся бы зеленый луг; днем это снежная равнина, высокая, море без волн и шумов, и никого, кто бы бросил ей вызов. Небо опускается на верхушки крыш. Не знаю, все ли косули в лесу погибли или нет, никакого блеяния в поселке слышно не было. Может быть, рыбы вне опасности: вода бежит под толстым ледяным стеклом, на котором выросла гора снега; под этим хрусталем скользят потоки воды, что теплее снега, и большие воздушные мешки. Вода продолжает полировать гальку на дне, и рыба, как уснувший уж, и знать не знает об этой зиме.
С возвращением летних дней рыбы снова начинают скользить в лужах у берега; возвращаются и мухи, муравьи, саранча в сене, ужи. Как ужи умудрились забраться на горные пастбища, не знаю, никакой зиме их не уничтожить. Превратись мы в кротов или в собственный голос в подземном проводе, можно было бы убежать под земной оболочкой. Лишь воробьи составляют нам компанию, летая из конца в конец наших хлевов. Будь я одним из них, мог бы спастись в вышине, над крышами и трубами, если бы поднялся неистовый ветер и снег бился о фасады домов или если бы маленький начальный толчок — ребенок, скажем, пошевелил мизинцем — вызвал начало конца (снег из ложбины, скользя, нарушает равновесие снежных масс, которые удерживаются в напряжении на краю пропастей, на кручах) и разнес, разбил снежный простор на всем протяжении горы, в ширину и в высоту, и погнал его туда, куда угодно ему, случаю, — и на ту черную точку внизу, четыре дома крестом, на горстку психов, упорно продолжающих там жить.
Да, бежать, отдаваясь на волю ветра, разглядывать картину разрушения, лавину, которая вырывает с корнем высоченные и крепко сидящие в земле деревья, бесшумно катит смертоносные каменные глыбы, сметает дома, как игрушки, и двух женщин в черном, стоящих сейчас у входа в церковь, которые, немножко наклонившись вперед, что-то говорят друг другу на ухо — быть может, чтобы дознаться про свою жизнь и судьбу?[9] Я не могу представить себе смерть в озере, в море, разве есть смысл в живой воде, которая убивает? Снег не вторгается в тело. И потом, когда ты умер, новый снег падает с неба тебе на лицо, это тот же замечательный первый снег, который нежно тает на розовой детской коже. Как-то в сочельник в горах погибла девушка, упав со скалы на слежавшийся ровный снег. Мы нашли ее, идя по лыжному следу ее спутника, который спустился в поселок, чтобы поднять тревогу. По мере того как мы поднимались, след пропадал из-за снега, который, падая, все больше засыпал его. Снег шел тихий, и, придя на место, мы чуть не споткнулись о тело девушки, почти целиком занесенное свежим снегом. Я стряхнул снег с ботинок, с изящных брюк, со свитера с капюшоном, скрывавшим и волосы, с плеч и рук в перчатках из белоголубой шерсти; было видно только лицо девушки, на котором снег уже не таял. В один голос с тремя парнями из отряда спасателей я сказал: «Будто спит», и, глядя на это лицо, слегка припорошенное снегом, действительно отказывался верить, что она умерла. Но, подняв девушке руку, чтобы подхватить ее под мышки и уложить в сани, на которых предполагалось везти тело вниз, я тотчас эту руку уронил: в ней была смерть, и ощущение смерти надолго осталось у меня в ладони, как в детстве — золотой порошок, которым покрывают зеркальные рамы: нам говорили не брать руки в рот, это была смертельно ядовитая присыпка, я думал, что ношу пылинки смерти в кисти, и все мыл, мыл ее и хотел отрубить напрочь.
Будь я летающей птицей, хотел бы попасть в зону сплошной облачности или туда, где облака редки, выше тех пределов, где образуется снег, который падает нам на головы, туда, где каждый вечер пролетает международный почтовый аэроплан: мы не видим и не слышим его давно в своей долине, которая, должно быть, кажется пилоту ничтожной кромкой серого моря — две минуты серого, над Альпами.
А вот еще выше наверняка моя мама, смотрит оттуда на наш дом: представляю, как она на минутку выходит из райского света, чтобы поглядеть на нас и потом помолиться о нас, как она готова удержать лавину, если та ринется вниз.
Любовь матерей, уже умерших, заставляет меня верить в то, что мы называем общением святых; не могу представить себе матерей, погруженных исключительно в усладительное созерцание Бога, — этих женщин, которые каждый вечер, беспокоясь, ждали нас, пока мы предавались своим похождениям, терпели наше эгоистичное молчание, когда спадала лихость от толики вина и пары женских ног. Мы возвращались домой, только чтобы переобмундироваться, вроде солдат, заходящих в каптерку. Маму, когда она была жива, я, бывало, поддразнивал, едучи с ней на телеге с сеном и видя, что приближается гроза: «Если дождь не пойдет, так это по молитвам святого Антония, а если пойдет, значит, такое нам от него испытание». Теперь, когда ее нет, думаю, это она делает попытки отвести воду от нашего сена или собрать тучи в июне над долиной, если стоит сушь.
В молодости, когда дождило, мы говорили, как, наверно, здорово заниматься любовью, когда на улице дождь. Теперь, когда идет дождь, летом, я всегда вспоминаю о ней. Мужчины останавливались под крылом крыши покурить, ожидая, пока перестанет, разговаривали и время от времени громко смеялись все вместе. Мы с мамой забирались на сеновал, на сваленное сено. Она снимала туфли, чтобы дать ногам немного подышать: ее тонкие ступни были в черных чулках — в черных чулках, которые я увидел первым делом, войдя в морг. Теперь я старик, а мне ведь нет и тридцати.
Я думал о воробье в небесной вышине (в такой вышине, что он задевает за краешек рая, где сидит моя мать, в кухонном и кофейном воздухе), потому что один старый полковник, некогда получивший диплом лесовода, а ныне — уважаемый правительственный чиновник, позвонил жандарму и повелел ему поставить молодого человека с хорошим запасом провианта на вершине гребня, нависающего над поселком и позволяющего (полковники могут не считаться с туманами) видеть целиком кар, где образуется или может образоваться лавина. Молодой человек увидит лавину при ее зарождении и немедленно подаст сигнал тревоги, заиграв на трубе.
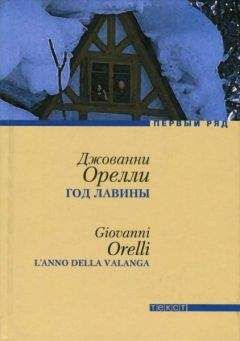


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

