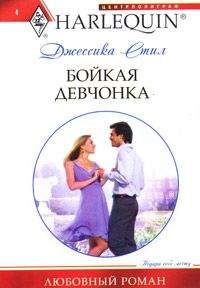— Да при чем здесь мама? — Витька давился словами, обжигался словно. — О тебе я!.. Потом — да, заботился. А сначала, когда приехали… Сначала, первые полтора-два года, за человека же не считал: «Болван, дурак томашовский…» Другого имени не было. Это же не я тебе еду получше отдавал, а ты мне похуже подвигал: «Желудок молодой, переработает».
— Что ты… — задохнулся отец. — Что ты городишь! По триста литров варенья наваривал — для кого?! Боксом захотел заниматься — иди! Спортивный костюм купил, грушу сделал. Повесил! Чем ты недоволен? Что тебе не хватало?! — Он возмущенно засопел, отвернулся. Не выдержал: — Или тебе разносолы из Парижа надо было?
Витька понял, что перебрал, не надо было уж так-то. Само как-то вылетело. Глянул по сторонам: теперь они с отцом точно были как на сцене.
— Правильно все, — пошел он на мировую. — Я просто к чему, что после, когда я республику по юношам выиграл, в газетенке маленько прописали, ты ко мне стал лучше относиться. Хорошо. В свою породу переписал…
— Никогда никакой разницы не делал, всегда к тебе относился одинаково, как к сыну! — обрубил отец. — Да не пей, говорят тебе, эту мочу! — Остановил сына, который опять присосался к кружке. — Знаешь что, чем всякой дрянью травиться, раз не хочешь ко мне, давай доскочим до нашего дома. Хозяева меня знают, уважают — как дорогих гостей нас примут. И дом посмотришь!
Знакомый дощатый мостик через арык, коричневая, перетянутая по диагонали витой проволокой калитка, сбоку груда камней, приваленных к изгороди, — сколько поездили они на Витьке! Сад достался неухоженным, был завален камнями. Витька отовсюду собирал их и стаскивал в кучу. Но куча то и дело в недобрый час попадала отцу под ноги — ругался, заставлял перенести, указывал куда. Но, куда ни кинь — все клин. Скоро опять натыкался или просто куча начинала мозолить глаза ему — и сын пер камни на новое место. Теперь слежались, поросли травой. От калитки, меж сводами виноградных лоз, цементированная дорожка, переходящая в цементированный двор с колодцем посередке. И, словно детский картонный кубик, дом с летящими по стенам полинялыми белками. Все дело рук отца и сына.
Оказалось: дом недавно был перепродан. У него новые владельцы. И узкоплечая, широкобедрая хозяйка, похожая на удлиненный кувшин, приняла непрошеных гостей если не в штыки, то несколько враждебно. Понятно: сидела женщина в затемненной комнате, смотрела телевизор, ввалились два странных типа; один, мужчина в возрасте, с порога начал размахивать руками, орать, будто она глухая, другой, мрачный лохматый парень, заворочал глазищами, принялся что-то выглядывать, выглядывать. Хозяйка вытянулась, как гусыня, мягко заводила руками, перепуганно, но с достоинством, сдержанно стала твердить, что дом уже продан, а муж и сын у ней в саду, а она знать ничего не знает. На что отец четко и вразумительно отбил, что покупать никто ничего не собирается, пришли посмотреть, потому как жили в этом доме, построили его, а потом продали. Женщина вняла, но смотрела настороженно. Отец поинтересовался, откуда она, выяснилось: из Чебоксар. И он сразу заговорил о великом ее земляке Чапаеве, перескочил на космонавта Андрияна Николаева, попутно поведал, что они тоже земляки космонавта Германа Титова, обращаясь уже больше к сыну, не забыл боксеров — чебоксарцев Соколова и Львова. И окончательно расположил к себе хозяйку, подыскал, так сказать, ключик, когда показал на экран, где певица, взяв высокую ноту, сильно раскрыла рот: «Вот бы сейчас ей туда помидорку вставить». И сам расхохотался первый. Женщина, видно, тоже обладала пылким воображением, представила, как заткнется певица с помидоркой во рту, и воспитанно, прикрыв зубы губами, зашлась в любезном балалаечном смехе.
У Витьки было вообще туго с юмором. Хмыкнул за компанию и с чистой совестью пошел по комнатам. Чужая красивая мебель, гладкие, отсвечивающие голубизной белые стены, хорошо подогнанный крашеный пол. Чисто, сухо, свежо, уютно. Сын захватил дом таким, довелось немного пожить в таком. Но помнил другим: без пола, с неоштукатуренным потолком и стенами — дом, где провели они с матерью ту лютую зиму, о которой говорили, что не было подобной в этих краях семьдесят лет!
Мать в третий год жизни на юге тяжело заболела, осложнились старые недуги, больше двух месяцев, почти всю осень, пролежала в онкологическом диспансере. И с ее болезнью как-то захирело развернувшееся было за лето строительство, приостановилось. После сложной операции вернулась мать в голые саманные стены с крышей. Отца же угораздило смотаться на недельку-другую в еще более южные земли, в район Ленинабада, присмотреться, прицениться — слух прошел, дома там дешевле, а ясно же, как день, скоро подорожают. Ну и, ко всему прочему, условия жизни лучше, скажем, гранаты растут, а здесь, ни в Киргизии, ни в Казахстане, не родятся. Виноград, дыни там слаще! Словом, причины, чтоб съездить, нашлись. И душа, видно, давно настроилась, поэтому и работа не шла. Одна беда: уехал и снова что-то загляделся. До весны там чего-то высматривал! И чего бы в самом деле?..
А больная жена и школьник-сын зимовали в недостроенном доме и тихо замерзали. Пришла беда, говорят, отворяй ворота. Так это или нет, но холода вдарили сибирские! Только в Сибири тридцать градусов — не мороз, бежит человек, раскраснеется! А в Средней Азии в минус пятнадцать невмочь, коченеет до синевы, загибается. Жилье не приспособлено — глина! С топливом худо, особенно с дровами. А у матери с сыном и жилье аховое, и топливо — стружки! Раньше, в обычную зиму, стружки вполне обогревали старую, тогда еще низенькую мазанку. Но отопить сущий амбар, когда нет пола и от земли под лагами постоянно тянет сыростью и стужей, несет стылостью от стен с торчащими боками саманов, напоминающих древние руины!.. Целый день ваннами засыпали в печку эти древесные завитушки — пыхали стружки ярко, красиво, но тепла давали мало.
Иными утрами красный столбик в термометре, специально Витькой приобретенном, падал до минус одиннадцати. Спали мать и сын в пальто, сложив на себя всю имеющуюся лопотину. И прямо дома, лежа в постели, можно было любоваться серебристым инеем, особенно густым на маленьких щепочках, оставшихся на земле от стройки. Большие угодили в печь.
Мать не расставалась с грелкой, в упорной борьбе с морозом не отходила от топки, держалась. Ее больной, но закаленный, привыкший за жизнь к трудностям организм сопротивлялся, выстаивал. А у сына пошли по телу и лицу фурункулы, стали кровоточить десны. Как-то с неделю не был он в школе, вдруг явилась одноклассница, строгая надменная активистка. Пришла, видно, сделать внушение этому нерадивому Томашову, показать его истинное лицо родителям — наверняка, думала, не подозревают, что сын прогульщик. Пришла и, вот уж в самом деле, остолбенела. В глазах ее Витька и увидел всю убогость быта своего — привык уже, казалось, ничего, нормально. А девушка шага от дверей сделать не смогла в растерянности, улыбнуться не догадалась. Кровати стоят на опрокинутых трехлитровых банках (выше теплее), а те в свою очередь упираются в настеленные по лагам доски. Ходят тоже по тропинкам из досок… Витька тогда застыдился жутко, одноклассницу возненавидел — лезет в чужой огород!.. Потом все ждал со страхом, вот-вот в школе заговорят, будут коситься на него, спрашивать… Не дай Бог, еще и помочь решат, собрание соберут! Но вокруг молчали, активистка ему улыбалась, а в следующий пропуск занятий пришла уже по-дружески, просто…
Тяжко было, изводил паскуда холод. Но было и хорошо. Вечерами. В дни помягче, раскочегарив печку добела, удавалось накопить в доме к вечеру тепло. Разомлевшие, раскрасневшиеся, пускались мать с сыном в длинные разговоры. Строили планы насчет Витькиного будущего, перебирали былое, вспоминали поочередно родственников, гадали: как они там сейчас?.. И никто не мешал, не дергал отец, не кричал. Смотрели телевизор — невероятно, можно сказать, в пещере телевизор! Как-то в концерте по заявкам показали отрывок из фильма, где актер в больничном халате, стоя перед окном, проникновенно пел:
Караваны птиц надо мной летят,
Пролетают в небе мимо.
Надо мной летят, будто взять хотят
В сторону родную, край любимый.
На словах:
Полетел бы я в дом, где жил, где рос,
Если б в небо мог подняться.
Разве может с тем, что любил до слез,
Человек душой своей расстаться?.. —
зашмыгали оба, расплакались. (Нет, не может, нет.) Или был фильм про парня, который за два месяца до конца срока сбежал из тюрьмы, лишь бы хоть денек побывать в родной деревне — так тянуло! А родня, односельчане решили, что его раньше отпустили. Гулянку устроили, встречу. И вот когда гулянка-то разыгралась на экране, мать аж вся туда, в телевизор ушла: «Ах ты, — говорит, — Боже мой, смотри, смотри, ну прямо настоящая гулянка! И дед притопывает, надо же, смотри что!..» И облегченно так, вольно вздыхает. А на родину обоим охота, Господи, до чего охота с журавлями, с парнем этим непутевым… Разве могли они тогда предположить, что через какие-то два-три года уже на родине, в Сибири, будут с тоской вспоминать этот южный край, дом свой, сад. «Войдешь — яблоки, вишни, виноград — в глазах рябит. И запах, вот скажи, будто всю тебя поднимает. Не верится — было это или приснилось?..» — пригорюнится мать. Все надо объять человеку! Уместить, сжать хоть в сердце своем пространство, охватить, удержать время. Вечный журавль в небе!..