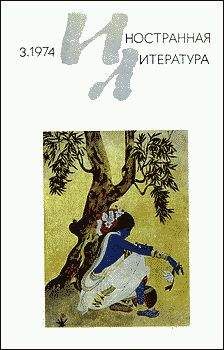Жильбер пересек будуар, комнату для гостей. Он глубоко вдыхает запах мастики, выстиранных ситцевых занавесок — запах, который, как ему казалось, он забыл. Он распахивает дверь музыкальной комнаты, и Франсина оборачивается.
— Ты?! — И вот она уже в его объятиях. — Я была уверена, что ты вернешься! Почему ты не написал?.. — Она говорит и смеется, а он целует ее; потом она смотрит на Жильбера, и недовольная гримаса появляется на ее лице. — Какой ты бледный и как плохо пострижен! Это теперь такая мода у военных?
Она свежая, благоухающая, прелестная, длинные волосы ниспадают до плеч, розовый шелковый пеньюар, плотно облегающий талию и бедра, подчеркивает красоту ее тела, в длинном вырезе виден маленький затененный треугольник между грудей.
— Франсина... моя Франсина! — повторяет Жильбер. Он словно поглупел, взволнован, как мальчишка, и даже не способен отвечать на вопросы жены.
— Наконец-то эта грязная война кончилась, — говорит Франсина.
«Кончилась... совсем кончилась?.. Возможно ли это?»
Матильда стоит в дверях. Засунув руки в карманы большого голубого фартука, она смотрит с улыбкой на Жильбера и Франсину, но взгляд у нее — сосредоточенно-серьезный, словно она знает все, что он видел, все, что он перечувствовал, все тяжелое и мрачное, что он носит в себе. Во взгляде же Франсины — лишь свет и радость.
— Ты что же, не собираешься посмотреть на свою дочку? — спрашивает Матильда. «Правда, ведь у меня есть ребенок», — вспоминает Жильбер.
Франсина берет его за руку и тащит в коридор. Жильбер хотел было войти в свою комнату, но Франсина подталкивает его дальше — к комнатам Жоржа.
— Малышка у Матильды, она ею занимается. Эта паршивка Клоди имеет привычку просыпаться на заре, а я, ты ведь знаешь... я люблю поспать.
Да, он знает. Ставни закрыты до десяти часов. Он всегда вставал и выходил на цыпочках из комнаты.
— А меня она совсем не беспокоит, — говорит Матильда. — Это гораздо приятнее, чем будильник. Пойди посмотри на маленькое чудо, только тихо: она спит.
У окна, в колыбели с белыми занавесками, Жильбер видит маленькое розовое личико с выпуклым лбом, кукольную головку, покрытую белым пухом, и два прижатых к ушкам крошечных кулачка.
— По-моему, она очень хорошенькая, — шепчет Жильбер.
Он не знает, что еще сказать, — как это глупо, так взволноваться при виде дочери.
— Она прелесть, — говорит Матильда. — Ты еще увидишь, какие у нее глазки. Она похожа на тебя, но глаза у нее зеленые, как у Франсины, и она все время улыбается.
— Она тебе нравится? — спрашивает Франсина. — Ты знаешь, я постаралась. — И она, смеясь, уходит, осторожно ступая, чтобы не греметь каблуками домашних туфелек.
— Ох, я совсем забыла про маленького испанца! — спохватывается Матильда и быстро спускается вниз.
Жильбер и Франсина остаются на втором этаже. Они входят в свою комнату, но уже много месяцев назад она перестала быть их комнатой. Теперь это комната Франсины, и Жильбер чувствует себя здесь как-то странно. Правда, здесь все те же ситцевые занавески с большими цветами, та же мебель в стиле Луи-Филиппа, секретер, комод, медные отверстия замков, но в открытых ящиках — кружева и шелка. На большом кресле, на шезлонге — всюду разбросано скомканное белье, платья, чулки, юбки.
— Садись, я сейчас наведу порядок, — говорит Франсина.
Жильбер отодвигает какие-то тряпки и садится на ручку кресла. Вообще-то он не любит беспорядка. Он вспоминает, как упрекал Франсину за так называемый хаос, но сейчас эти нежные цвета и тонкие ткани, это изящество очаровывают его. Вся комната пропитана духами Франсины. Жильбер с наслаждением вдыхает их аромат. «Пропитаться им, успокоиться... забыть все, начать все сначала... но ведь это не хлороформ», — думает Жильбер. Он старается вспомнить название духов, как будто речь идет о чем-то очень важном. Ах да, вспомнил — «Черный тюльпан». Это так глупо. Тюльпаны вообще не пахнут, а черные к тому же редко встречаются.
— О чем ты думаешь? — спрашивает Франсина и, не дожидаясь ответа, с одеждой в руках толкает ногой дверь в ванную. — Подожди, я через две минуты оденусь.
Жильбер заходит в ванную и озирается вокруг: на стенах — белые плитки с голубым рисунком. Он ищет пожелтевшую плитку внизу, под краном с горячей водой, — ту самую, которую Жорж расколол в детстве, запустив в нее ботинком. Она по-прежнему тут: пастух в большой соломенной шляпе перерезан коричневой линией поперек торса, и дерево, под сенью которого пасутся его бараны, составлено из мелких осколков.
— Ты увидишь, я сделала успехи, — кричит Франсина. — Если только я не займу первое место в этом году...
Шум воды, звон флаконов, какие-то предметы переставляются с места на место, запах мыла, лосьона, одеколона, крема, пудры. Жильберу хочется опуститься на пол, закрыть глаза, потерять сознание... забыться в сладостном небытии — ничего больше не видеть, ничего не слышать до тех пор, пока не настанет та единственная в жизни минута, которая принесет с собой аромат и нежность тела Франсины. Франсина, стиснутая в его объятьях, нежная, задыхающаяся пленница, прочной стеною отгородит его от войны.
Матильда стоит перед старой, чугунной, отделанной медью плитой и наблюдает за тазом с абрикосовым вареньем и кастрюлями, в которых готовится обед.
— Ты готовишь на этой старой плите? — спрашивает удивленный Жильбер.
Не оборачиваясь, Матильда отвечает:
— А что бы мы делали без нее? Баллонов с газом нынче не существует. Пока у нас еще есть уголь — его доставили мне, видно, в последний раз. И к счастью, благодаря сосняку есть дрова. Хотя, конечно, топить плиту в это время года несколько жарковато.
Матильда вытирает лицо углом голубого фартука. В крепкой руке она держит шумовку для варенья. Ее голые, мускулистые, загорелые руки покраснели от огня.
— Большое тебе спасибо, — говорит Жильбер, — большое спасибо за твою заботу о Франсине, о моей дочери, за все, что ты сделала здесь без меня. Я часто думал, как тебе было тяжело. Ни Франсина, ни Жорж не могли толком тебе помочь. Дом, хозяйство — все было на твоих плечах, и ты мужественно со всем справилась. Право же, Матильда, я восхищен тобой.
На этот раз Матильда оборачивается. Лицо ее раскраснелось, она улыбается, в ясных глазах светится лукавство.
— Война сделала тебя чересчур сентиментальным, милый Жиль. Я обожаю деревню и мою работу тоже. Это много живее, чем нотариальная контора Жоржа. Вся эта бумажная волокита, такие вещи мало интересуют меня. Так что благодарить не за что. И потом, ты знаешь, Гоберы нам в самом деле преданы, и мне было не слишком трудно. Здесь мы все-таки в привилегированном положении... во всяком случае, были до сих пор.
— А теперь? — спрашивает Жильбер.
— Теперь мы обязаны снабжать оккупантов. Они являются, подсчитывают, наблюдают, приказывают. Нам ничего больше не принадлежит. Приходится хитрить, чтобы скрыть от них курицу, барана, несколько яиц, фрукты. Они платят, но к чему деньги, если на них ничего не купишь? Иногда они соглашаются на обмен. Они мне дали сахарного песку, и благодаря этому я варю варенье. За молочного поросенка они дали мне пять литров масла.
Матильда устало разводит руками; вот так, надо соглашаться, играть и лгать. Она молча передвигает свои кастрюли, затем внезапно спрашивает:
— Как могли мы так проиграть, Жильбер?
Жильбер молчит. Вот уже много дней он задает себе тот же самый вопрос. Матильда поняла, что он не в состоянии ответить. И она, не говоря больше ни слова, поворачивается к своему тазу.
Через зарешеченное окно Жильбер видит голые стволы огромных платанов, часть парапета террасы, выложенного красными и белыми плитками, маргаритки, вазоны с цветами. Дальше он видит уже скошенные поля, белесые от палящего солнца. Сквозь нескончаемый стрекот цикад он слышит звуки, доносящиеся с фермы: лай собак, пение петухов, иногда скрип колес и цокот лошадиных копыт по булыжнику проселочной дороги. В кухню входит Хосе — он босиком и ступает тихо, словно кошка. Подходит к раковине и начинает мыть руки, не спуская с Матильды глаз. Как только она достает стопку тарелок, он кидается помогать ей накрывать на стол.
— Esto para mi, tia Mathilda[6].
С тех пор как Хосе появился в доме, он со всеми говорит по-французски, кроме Матильды, зато с ней говорит только по-испански. Так уж само собой получилось — словно они заключили договор. Если Матильда подыскивает слово или делает ошибку, Хосе сразу же поправляет ее: Матильда должна изъясняться только на безукоризненном испанском языке. Ставя тарелку перед Жильбером, он спрашивает очень быстро, почти шепотом, словно ему нелегко выговорить:
— Ты ничего для меня не узнал, tio[7] Жиль?
— Да, узнал, Хосе...
Мальчик замирает, сжимая в кулаке вилки, которые он собирался положить на стол. И снова ждет, но с такой явной тоской, что Жильбер, взволнованный, не знает, что ему сказать. Матильда подошла и обхватила за плечи Хосе.