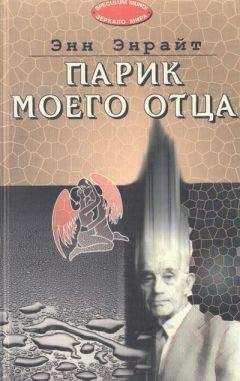— Иди на хер.
— Мне очень не хочется тебя разочаровывать, Грейс, но «Приправы» шли по «Би-Би-Си». «Приправы» ты увидела впервые уже в своем тихом, наряженном в модные прикиды отрочестве по «Би-Би-Си».
— «Приправы» шли по «Ар-Ти-И».
— По «Ар-Ти-И» шли «Murphy agaus а Chairde»[8]. По «Ар-Ти-И» шли «Dathai Lacha»[9]. Для «Фургона странников» ты, конечно, слишком шикарная девушка. Тебе зачем-то понадобилось сочинить какое-то долбаное протестантское детство с «Биллом и Беном». Билл и Бен — один хрен.
— У них стояла тарелка.
— Я не об этом.
— Никаких протестантских концепций в «Билле и Бене» нет, — говорю я. — Ты не начинаешь готовить чатни[10] и вязать футляры для грелок только потому, что насмотрелся английских мультиков. Распевая «Ближе к тебе, Господи», не умножишь количество телеканалов.
— И все же — что скажешь в свое оправдание?
Ох, уж этот Маркус. Он всех видит насквозь.
Маркус расквитается со всей нашей шайкой-лейкой — ибо он, в отличие от всех остальных, не сбежал от своей семьи. Он сбежал от истории. Он понимает душу своей страны, как никто — и ему больно, что страна не отвечает на его любовь взаимностью.
Я говорю:
— Просто ты считаешь, что «городской» значит «привилегированный» и «фальшивый», потому что в твоих родных краях все ходили к мессе, накрывались для тепла коровьими лепешками, а в субботу на ужин имели своего дядю, пока мы тут старались забыть, кто мы на самом деле такие, и учились выражаться по-благородному.
— Да, — отвечает Маркус, — именно так я и считаю.
Однако одевается он под преуспевающего человека. Воображаю себе его тело под всеми этими шмотками — мягкое, пропадающее зазря. Мне хочется посочувствовать ему со всеми его умственными потугами. Мне хочется посочувствовать ему, так как (и это истинная правда) одной местью не проживешь, а успех — это иллюзия. Мне нравится, как он меня ненавидит — хоть и не за то, за что следовало бы. Когда он произносит слово «город», я чувствую себя высокомерной мазохисткой и ощущаю легкие позывы похоти. Мне хочется открыть его бумажник и понюхать — но, боюсь, от него пахнет дерьмом.
Маркуса о его детстве лучше не спрашивать — он расскажет, и будет прав. Спросите его о любом дне из прошлого. Ты ему говоришь: «Что с тобой было 19 июля 1969 года?» — а он отвечает: «В тот день меня кое-кто обсмеял». Что до меня, я и такой малости не имею — ничегошеньки, даже такой вот лжи, которую я могла бы назвать своей.
Я позвонила матери, и она сказала, что летом шестьдесят девятого мы ездили на море, а там и близко телевизоров не было; так что, когда дело дошло до высадки на Луну, мы слушали радиорепортажи и смотрели на Луну из окна. Спасибо, мама.
Что до Бренды де Бензи, она предположила, что это та старая, с морщинистой улыбкой и одышкой в «Далласе». «Это Барбара Бель-Джеддес» — сказала я.
— Ну и как тут их упомнишь, если все они на одно лицо, а половины уже в живых нет? А как твой молодой человек? — спросила она.
— Отлично.
— Надеюсь, ты к нему добра.
— Он покрасил кухню, — сказала я.
— Ну вот видишь.
— В белый цвет покрасил.
— В белый? Кухню? Это же чудовищно!
— Ну вот видишь.
— Белая кухня. Как ты только это допустила?
— Он помешан на девственности, — сказала я.
— В таком случае, Грайн, — сказала она, — он ошибся домом.
Парадоксы, которые придумывает моя мать, разят не в бровь, а в глаз. Грайн — мое детское, «девственное» имя (впрочем, так ли уж девственны дети, а?). В школе меня дразнили «Грайн-Срайн» — вот я и поменяла его на «Грейс».
— Грейс, — говорю я. — Зови меня просто Грейс.
— Рожа пахнет рожей, — говорит она, — хоть рожей назови ее, хоть нет.
Я пошла на свою белую кухню и порезала руку банкой с помидорами — из-за матери. Кажется, крови из меня вышло много — а уж томатного соку точно разлилось немерено. С полбанки выплеснулось на белую стену. Такая картина, будто раненый пытался в темноте нащупать выключатель. Остаток я зафигачила в спагетти по-болонски вместе с кровью.
Стивену это блюдо оказалось не по вкусу. В итоге он пошел звонить Богу по большому белому телефону. «Бо-о-о-же!» — твердил он. Я хорошо выспалась.
Бога Стивен не видел ни разу. Таковы правила фигняции, связанной с его смертью. Стивен все еще карабкается наверх. Я для него — всего лишь очередная ступенька Лестницы Иакова. Он даже не знает, что там наверху. Боится выяснять, так я понимаю.
Я говорю ему, что перед ним — далекая дорога и богатый выбор. Кем он станет — Престолом, Силой или Архангелом? Золотисто-алым будет светиться или лиловым? Места семерых, предстоящих Богу, уже заняты, так что дудеть в трубу на Страшном Суде будет не он, но многие ангелы пали и иные еще могут пасть. А пока надо бы ему поменьше восторгаться песенками из «Улицы Сезам» и всерьез заняться своей диетой, потому что ангельская блевотина пахнет чумой и отчаянием.
Он сваливает вину на продукты. На кухне луковицы пускают побеги прямо сквозь сетку. Картошка зеленеет от одного его взгляда. Вода становится слаще, в раковине цветут лилии. На свет он, кажется, тоже как-то влияет. Взрывается с грохотом стеклянная посуда — это ожившие приправы распирают свои банки, а тесто поднимается, как на чертовой печке. Против ожиданий, его дерьмо пахнет дерьмом — я бы даже сказала, дерьмом в квадрате.
Он толстеет. Его угловатые черты сглаживаются, отметины на шее выцветают до фарфоровой голубизны. Еще годик, говорит он, и я стану голым и пухленьким и буду парить над тобой с гирляндами. Я ребенка-то не хочу — говорю — а уж херувима, так вообще…
Теперь он все время разговаривает с телевизором — не хуже всех нас. «Да шевелись ты!», — говорит он. «Ага, опять начали с брехни за здравие», — говорит он. Еще он плачет и переключает каналы — боюсь, без помощи пульта. Как-то раз прихожу вечером с работы: экран пустой, а из динамиков льется музыка. Похоже, Де Валера и Кеннеди опять умерли, да еще и в один день, или где-то бесшумно упала бомба и мы катим добровольно и с песнями к концу света. Тут прорезался типичный рекламный тарарам, и до меня дошло, что это просто картинка барахлит.
В центре экрана сидела точка, вроде той искорки света из стародавних времен — помните, выключаешь телевизор, а она медленно-медленно гаснет? Подхожу врезать ящику по ушам. Бум. Телевизор разражается овацией. Стивен заливается своим характерным смехом, преисполненным небесной радости. Он закрасил экран странной, какой-то лучезарной черной краской, а в середине поместил маленькое, удивительно детально проработанное изображение луны.
Под черным слоем скачут картинки, суматошные и слепые — скованные, как муж с женой, занимающиеся любовью в доме родителей, как хороводные пляски вокруг гроба.
Но луна прекрасна. Луна даже в телевизоре выглядит красивой. Интересно, почему у нее такой опечаленный вид. Море Спокойствия, Болото Сна, Море Изобилия — точно штукатурка, облезающая со стены. Голос моего отца, тихо перечисляющий их под бескрайним небом (если мать не ошибается), под черный шум волн; Лунные Альпы, Озеро Грез. Вот и они: приткнулись где-то в Спокойствии, два человека и жестянка. Ты их увидишь, только вглядись как следует.
— Ну шутник! — сказала я. — Ну остряк! А теперь, прежде чем ложиться спать, отскреби все это дело.
Это я говорю, чтобы ощутить себя победительницей — правда, насколько я понимаю, в нечестной игре. Картинки бьются в экран, картинки, вырвавшись, разлетаются во все стороны — а Стивен, обернувшись, улыбается мне. Его взгляд по-прежнему будит во мне мощное, как жизнь, желание, и внутри у меня все слипается, а снаружи все плывет. Но влажное младенческое сияние прямо на глазах исчезает с его лица. Выдернув шнур из розетки, я ухожу наверх. Смотрю на луну в окно и вспоминаю ее явственно, пиксель за пикселем — мерцающий экран, мяч (показывают игру в гольф), флаг.
— И чего тебе, собственно, сдался этот телевизор? — спрашиваю я, когда он приходит наверх в спальню.
— Хочу в него попасть.
— Не стоит, — говорю я. — Им надо, чтоб ты производил дерьмо и вкалывал, как семь лошадей. И вообще, ангелу там не место.
— Зато мертвецу там самое место.
Тут я сказала ему, что не такой уж он мертвец. Мертвецов много — чуть ли не каждый встречный. Спереди член, сзади бумажник. Конечно, таких легко кадрить — кто спорит? Зато они опасны. Заражаешься их снежной слепотой. Короче, мы начали трепаться — до зари пережевывали старую жвачку, наговорили сорок бочек арестантов. Я рассказывала ему то про одного мужика, то про другого, про типа, который надевал два гондона, про типа со шпагатом в кармане и про этого самого, у которого подмышки пахли колючей проволокой. Я рассказала ему, как оглядываешься. Как теряешь из виду то, что у тебя прямо перед глазами. Как обращаешься в соль.