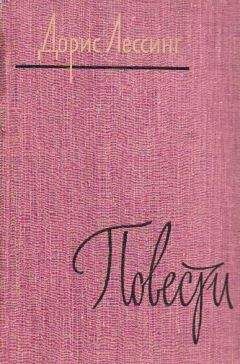Ему минуло девять лет, когда однажды, придя в шалаш, он не нашел Дирка. Это было в первый день каникул. Весь семестр он старался запомнить самое нужное, самое важное, чтобы рассказать Дирку, а его нет. На кусте гигантского папоротника сидел голубь, и его ленивое, усыпляющее воркование одиноко звучало в тишине знойного утра. Когда Томми, продираясь сквозь кусты, подошел ближе, голубь улетел. Тяжко бухали толчеи: «золото, золото, золото». Томми увидел, что и книг в шалаше нет, — сумка, в которой они лежали, висела открытой.
Он побежал к матери.
— Где Дирк? — спросил он.
— Откуда же я знаю, — сдержанно ответила мать. Она и в самом деле не знала, где он.
— Ты знаешь, знаешь! — зло закричал Томми и кинулся на прииск.
Сидя на опрокинутой вагонетке у края обрыва, мистер Макинтош смотрел вниз; в глубине, словно муравьи, копошились сотни рабочих.
— Ну как, сынок? — приветливо спросил он и подвинулся, чтобы Томми сел рядом.
— Где Дирк? — стоя против него, в упор задал вопрос укоризненно Томми.
Мистер Макинтош сдвинул свою старую фетровую шляпу совсем на затылок, почесал лоб и взглянул на Томми.
— Дирк работает, — ответил он наконец.
— Где?
Мистер Макинтош показал вниз. Потом сказал:
— Присядь-ка, сынок, мне нужно с тобой поговорить.
— Не хочу. — Томми отвернулся и, заплетаясь, побрел через кустарник к шалашу. Там он сел на скамью и заплакал. Подошло время обеда, но мальчик не тронулся с места. Весь день он просидел в шалаше, а когда выпла- [26] кался, все равно остался сидеть, прислонившись к столбу, глядя в кусты. Кру-круу кру-круу, — ворковали голуби; постукивал дятел, глухо бухали толчеи. И все же вокруг было тихо, так тихо, словно долину сковала тишина. Томми даже слышал, как точат под ним скамейку жуки и муравьи. Муравейник жил — этот остроконечный холм высушенной солнцем твердой земли, — хотя и казался мертвым. В полу шалаша появились новые, окруженные бугорками свежей сыроватой земли ходы, а вверху, вокруг кольев, — тонкий, узорчатый слой красноватой древесной трухи. Шалаш, пожалуй, надо сделать заново, потому что муравьи и жуки источат его насквозь. Но зачем он нужен, если нет Дирка?
Весь день мальчик просидел в шалаше и домой пришел уже затемно. Когда мать спросила его: «Что с тобой? Почему ты плачешь?» — он сердито буркнул: «Не знаю». Раз она притворяется, то и он ответит ей тем же.
На другой день Томми удрал в шалаш еще до завтрака, не возвращался до темноты и, хотя ничего не ел, отказался от ужина.
То же самое повторилось и на следующий день, только теперь мальчику стало скучно, и он особенно остро ощутил свое одиночество. Он поднял кусок дерева, вытащил из кармана нож и принялся строгать. И вскоре дерево превратилось в сгорбленного, изнемогающего под тяжестью ноши мальчика с закинутыми назад, судорожно вцепившимися в груз руками. Он притащил фигурку домой и за ужином поставил перед собой на стол.
— Что это? — спросила мать, и он ответил:
— Дирк.
Он захватил фигурку в спальню и при мягком свете лампы долго сидел там, отделывая ее ножом. Утром, когда он, выйдя из дому, встретил мистера Макинтоша у котлована, фигурка была у него в руке.
— Что это у тебя, сынок? — спросил мистер Макинтош, и Томми ответил:
— Дирк.
Лицо у мистера Макинтоша вытянулось, но он тут же улыбнулся и сказал:
— Отдай его мне.
— Нет, это ему.
— Я заплачу тебе, — мистер Макинтош вытащил бумажник. [27]
— Не надо мне ваших денег, — буркнул Томми, а мистер Макинтош, растерявшись от неожиданности, убрал бумажник в карман. Но вдруг Томми нерешительно сказал:
— Ладно уж, берите.
Самолюбие мистера Макинтоша было удовлетворено: с облегчением достав бумажник, он, в восторге от собственной щедрости, извлек оттуда однофунтовую бумажку.
— Пять фунтов, — выпалил Томми.
Мистер Макинтош нахмурился, потом засмеялся. Запрокинув назад голову, покатываясь от хохота, он прорычал:
— Ну и делец же из тебя выйдет, парень! Пять фунтов за какую-то деревяшку.
— Ну и сделали бы сами, если это деревяшка. Мистер Макинтош отсчитал пять фунтов и вручил
Томми.
— А что же ты собираешься сделать на эти деньги? — поинтересовался он, наблюдая, как Томми прячет их и тщательно застегивает кармашек на рубахе.
— Дирку отдам, — с триумфом отрезал Томми; массивное, обрюзгшее лицо мистера Макинтоша побагровело.
Сидя на вагонетке, он рассеянно постукивал тяжелой палкой по башмакам, глядя вслед удалявшемуся Томми, стараясь понять его странное поведение. «Он славный мальчишка, и у него доброе сердце», — подумал он, и все вдруг стало ему ясно.
Вечером, когда он ел жаркое с капустой, к нему зашла миссис Кларк.
— Мне бы нужно поговорить с вами, мистер Макинтош, — сказала она.
Кивком мистер Макинтош указал на стул, но она не села.
— Томми очень переживает, — осторожно продолжала она, — он так привык к Дирку, и ему совсем не с кем играть.
Какое-то мгновение мистер Макинтош смотрел в тарелку.
— Это легко уладить, Энни, не волнуйтесь, — сказал он.
Мистер Макинтош говорил правду. Стоило ему мигнуть — и любого рабочего посылали туда, куда он хотел. [28]
Яркий румянец негодования залил щеки миссис Кларк, и она с нескрываемым презрением взглянула на Макинтоша. Но он, словно не замечая этого взгляда, продолжал:
— Завтра же это будет сделано, Энни.
Она поблагодарила его и ушла, досадуя, что не высказала ему напоследок всегда облегчавшие ее душу слова: «Вы настоящая свинья, мистер Макинтош...»''
Меж тем Томми сидел в шалаше, заливаясь слезами. А когда он выплакался, в нем поднялась такая буря гнева и отчаяния, что эти переживания остались у него в памяти на всю жизнь. Из-за чего? Самое ужасное, что он и сам не знал этого. Дело было не только в мистере Макинтоше, который любил его, Томми, и который тем самым подло предавал свою плоть и кровь, и не в молчании его родителей; он чувствовал, что причина глубже, и вот над этим-то он и думал, прислушиваясь к похрустыванию челюстей муравьев, грызущих ножки скамьи, на которой он сидел. Он старался вдуматься в значение слов, высказанных и невысказанных — о которых нужно догадываться, — и этот груз мыслей почти непосильным бременем ложился на душу десятилетнего ребенка.
Малышу, например, ничего не стоит сегодня сказать о сверстнике, что он его терпеть не может, он, мол, такой и сякой, а завтра — что это его лучший друг. Таковы уж взаимоотношения, изменчивые и непостоянные; однако ребенка с самого нежного возраста в его любви и ненависти цепко держит паутина социальных предрассудков, которой опутывают его родители. Зрелые люди говорят просто: «Это вот друг, а это — враг», — и все перипетии человеческих отношений выражаются ими, спокойствия ради, одним словом. Но между детством и зрелостью есть пора, когда молодые люди — ну, лет, так, в двадцать — хотят все познать и испытать, иметь собственные взгляды на жизнь со всеми ее суровыми и жестокими истинами, не ведая, как тяжело смириться с ними и придерживаться их до конца своих дней. Нетрудно быть непогрешимым в двадцать лет.
Но как может десятилетний мальчик, всецело предоставленный самому себе, разобраться в смысле слов, подобных слову «дружба»? Да и что такое дружба? Дирк ему друг — это он знал, но нравится ли ему Дирк? Любит ли он Дирка? Да порой вовсе нет. Он вспомнил, как [29] Дирк однажды сказал ему: «Я достану тебе другого детеныша антилопы. Я убью его мать камнем». Его внезапно охватило тогда отвращение. Да, Дирк жесток. Но... здесь Томми неожиданно для самого себя расхохотался, и тут же почувствовал, что теперь понимает эту странную манеру Дирка смеяться. Ведь это же нелепо — обвинять Дирка в жестокости, когда само его появление на свет — жестокость. Но и мистер Макинтош, который только загорел от солнца, а на самом деле — белый, смеется так же, как и Дирк. Почему у мистера Макинтоша такой же резкий и противный смех? Быть может, давно, когда он еще не был богат, с ним тоже обошлись жестоко, и сам он стал жестоким, а теперь Дирк, этот 'цветной мальчик, мулат, так озлоблен на жизнь... а если так, значит, дело не в различном цвете кожи, а в чем-то гораздо более сложном, и тем труднее это понять.
Потом он подумал, что Дирк всегда ожидает его с таким видом, словно считает в порядке вещей, что он, Томми, помогает ему; и если он, Томми, воюет из-за него с Макинтошем, то иначе и быть не может. Почему? Потому ли, что Дирк его друг? Но ведь бывает же, что он ненавидит Дирка, да и тот, конечно, ненавидит его, а в драке они с легким сердцем и не задумываясь могли бы убить друг друга. Ну и что же? А дальше? Что же такое все-таки та дружба, что их так крепко связала, и почему? И мало-помалу маленький, одиноко сидящий в своем шалаше на муравейнике мальчик познал то, что познается лишь в зрелости — иронию судьбы. Человек может знать, что он любит кого-то, хотя это и не соответствует обычному пониманию слова, ибо тот не нравится ему или ему не нравится его манера говорить, политические взгляды или еще что-нибудь. И все-таки они друзья и всегда будут друзьями, и что бы ни случилось с одним из них, это глубоко волнует другого, хотя живут они, может быть, на разных континентах и, возможно, никогда больше не увидятся. А если бы они после двадцатилетней разлуки встретились, им не пришлось бы что-то объяснять друг другу: им все было бы понятно без слов. Такая дружба существует, так же как взаимная симпатия или простое сходство характеров. Ну и что из этого следует? Признать эту тяжкую, суровую истину мальчику его возраста было нелегко, но он смирился и понял, что они с Дирком ближе, чем братья, и так уж тому и быть. [30]