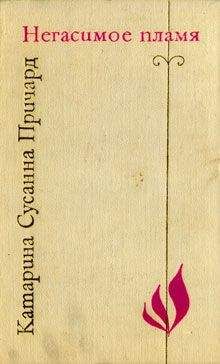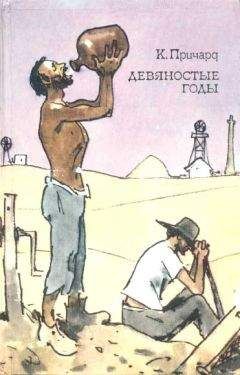Когда он пел, улыбка исчезала из его глаз. И если раньше у него был такой вид, словно он собирается выкинуть коленце, то сейчас от этого не осталось и следа. Казалось, он весь был во власти воспоминаний и слова песни уносят его далеко-далеко. Голос его, хоть и хриплый, громко отдавался в горах. Когда-то это был красивый голос, да и сейчас он оставался еще чистым и мягким, чем-то напоминавшим крики серых сорок.
Просто, естественно, словно думая вслух, пел Тим, и в голосе его звенела печаль:
Ты, как радостный, солнечный день, хороша.
Дай скорей тебя к сердцу прижать.
Но прекрасна ли в теле прекрасном душа,
Только время позволит узнать.
Я видела старика в поношенных брюках, стоявшего среди черных акаций возле своей хижины, но чувствовала, что передо мной влюбленный, вновь повторяющий признание в любви:
В том, кто любит тебя, милый друг, никогда
Это чувство уже не умрет.
Ведь подсолнечник тянется к солнцу всегда,
Прославляя закат и восход.
Много-много лет назад, подумала я, когда он пел так свои песни, женщины, наверно, его очень любили. Своим голосом он навсегда покорял их, обладавших «милыми, родными сердцу чертами». Мак-Алистер говорил мне потом, что в свое время несколько девушек в округе были влюблены в Тима, но он не обращал на них никакого внимания.
Одна из них, Люси Гарвей, вышедшая затем замуж за зажиточного фермера и имеющая уже десяток внучат, рассказывала, что Тим горячо любил одну женщину еще до того, как ушел в горы, и ни на кого другого не хотел и глядеть.
Мы стояли у огня, от нашей промокшей одежды поднимался пар. Тим запел снова.
— Эта песня, — сказал он, — называется «Красный цветок».
Я раньше не слышала этой песни и забыла слова, запомнив лишь, что «ее глаза были как хрустальный ручей», а «рот словно красный цветок». Но здесь, в этом месте, на расстоянии многих миль от какого-либо поселка, среди гор, высящихся багрово-голубой грядой, в окружении густых, непроходимых лесов, песня звучала едва ли не как исповедь. Старик пел ее с такой затаенной нежностью и грустью, словно пережитое заново воскресало в его памяти.
Неужели «она» из этой песни и была «красным цветком» его жизни?
— Ты придешь на танцы, Тим? — спросил Мак-Алистер, снова забираясь на козлы.
На днях ожидались танцы в поселке Киа, в десяти милях отсюда, по случаю проводов в армию одного паренька.
— Не знаю, следует ли мне ходить туда, в мои-то годы, — сказал Тим.
— Но ведь тебе там нравится? — настаивал Мак-Алистер.
— Да, — ответил Тим, — но пока утром доберешься домой, совсем замерзнешь.
А когда ты возвращаешься?
— Часа в три-четыре.
— И всю дорогу пешком?
— Иногда Гарвей подвозит меня до поворота.
— А миссис Гарвей тоже бывает на танцах, не так ли?
— Да.
Видно было, что старику стало не по себе, словно он чего-то застыдился. Он привык к тому, что его всегда поддразнивали, намекая на Люси Гарвей.
— Как это мило, что ты столько лет хранишь верность своей любимой, Тим! — засмеялся Мак-Алистер. — Немногие из нас способны на это.
Тим посмотрел на него, и в глазах его снова заискрилась улыбка.
— И ты туда же, болтаешь бог знает что.
Когда я уселась в карету, Мак-Алистер спросил Тима:
— А на танцах ты споешь им какую-нибудь песенку?
Старик кивнул.
Мак-Алистер взмахнул кнутом.
— Пойди на танцы, Тим, — сказал он. — Обязательно пойди. Тебе это полезно. Тебе там нравится, да и молодежь рада видеть тебя.
Прежде чем Тим успел ответить, карета покатилась вниз с холма — Мак-Алистер с трудом сдерживал застоявшихся лошадей. Колесница наша переваливалась и кряхтела, и казалось, вот-вот развалится на тысячу частей. Я помахала рукой Тиму. Он стоял посреди дороги и махал шляпой, пока мы не скрылись из виду.
Он продолжает жить в избушке из древесной коры, окруженной горами; по-прежнему ходит за лошадьми и выводит их к проезжающей почте. Иногда в его хижине заночует прохожий — бродяга-«свегмен», погонщик или лесоруб, направляющийся в Сиенну или Киа. Время от времени Тим ходит на танцы в Киа — десять миль туда и десять обратно, но большую часть времени он охотится на кенгуру, собирает кору акаций или же, сидя у порога хижины, чинит одежду. Серые сороки, восседая на засохших деревьях, оглашают воздух своими первозданными напевами. Иногда они подлетают за крошками к дверям его хижины.
Негодные воришки — так обзывает он их; по его словам, ему приходится прятать всю еду в банках, чтобы уберечь от прожорливых птиц.
Мак-Алистер отвозит за него в Киа кору для дубления, шкурки кенгуру и там продает их. Так, один за другим, проходят долгие, медленные дни.
Я думаю о том, что когда-нибудь Мак-Алистер подъедет к ограде, за которой растут молодые деревца, и увидит, что Тима нет на дороге, где он обычно стоит, держа наготове лошадей. Мак-Алистер покличет его, но услышит в ответ лишь эхо собственного голоса, возвращенное горами. Он обмотает вожжи вокруг тормоза, слезет с козел, приподнимет перекладину, снова размотает вожжи и подъедет к конюшне.
Но и там он увидит не Тима, а мирно пасущихся лошадей, которым нет дела до почты. Тима не окажется ни на конюшне, ни в хижине; где-нибудь в окрестностях Мак-Алистер или какой-нибудь другой «почтовик» найдут тело славного старого Тима, в поношенных молескиновых брюках. А через день или два молодежь, для которой он пел на танцах, и старики, с которыми он танцевал, когда был молод, устроят похороны. Они соберутся из далека, приедут на телегах, двуколках с высокими скрипучими колесами, бричках, чтобы проводить Тима Рейли на поросшее травой кладбище, приютившееся среди дюн на берегу реки.
Они немного посудачат о нем, о том, откуда он родом, кем он был и почему никогда не женился.
Может быть, Люси Гарвей что-нибудь расскажет им об этом и в голубых глазах ее засверкают слезы. Но для остальных жителей этих горных селений Тим Рейли навсегда останется стариком, который любил горы и содержал уже в восьмидесятилетнем возрасте конюшню с почтовыми лошадьми на дороге между Киа и Сиенной. Люди навсегда запомнят его веселый и добрый нрав и ирландские песни, которые он им пел.
Дождь в Куирре лил несколько недель подряд, и Стив Бивен, владелец единственной в городке парикмахерской и бильярдной, стоя на пороге кухни, мрачно смотрел на реку. Вода поднималась, мутные, грязно-желтые лужи стояли в низинах, поблескивая в лучах предвечернего солнца.
«Куирра-куирра», — пели лягушки, «ква-ква, кваква», — неистово трещали они, колотя в свои крохотные барабаны.
От лягушачьих криков и пошло название городка. Это был центр зернового района, процветавшего до того времени, как река стала заливать склады на прибрежной стороне улицы и цены на пшеницу упали.
Два года подряд река то и дело заливала первый этаж гостиницы «Подкова», лавку Росса, пекарню Трэслоу и парикмахерскую, оставляя после себя сырые, облинявшие стены и подмоченные товары.
— Река Куирра никогда так не безобразничала, — жаловались старожилы, — и, уж конечно, цены на пшеницу никогда не падали так низко.
— Хэлло, Стиви, как дела? — приветствовал Бивена Джо Браун, завернув с Эрном Беллером в парикмахерскую за пачкой сигарет.
— Не слишком блестяще, Джо, — ответил Стив. — Кажется, скоро одни лягушки смогут жить в этом городе.
— Что ж, французы говорят: лягушки — отличная еда, — весело вмешался в разговор Эрн. — Если нам ничего больше не останется, займемся разведением лягушек.
После смерти отца Эрн стал хозяином конюшен около железнодорожной станции. Джо работал кучером и Том Трэслоу — пекарем.
Все в городе охали и жаловались на тяжелые времена: то совсем нет работы, то ее слишком много; наводнение того и гляди наделает бед, как уже бывало; цены на пшеницу еще больше упадут.
Фермеры вокруг Куирры окончательно разорились, и у каждого лавочника были долговые списки, которые выросли до непомерной длины. А у самих лавочников на шее висели закладные, да и кредит в банке был превышен. Но даже при таких обстоятельствах обитателям Куирры немыслимо было представить себе Стива Бивена мрачным. Записной весельчак, известный всему городу, он вынужден был поддерживать свою репутацию: все знали, что он никогда не упустит случая сыграть с кем-нибудь шутку.
Подвижный маленький человечек, Стив весело чирикал кстати и некстати, и у него в бильярдной, где мужчины собирались по вечерам сыграть партию, всегда было весело.
Однако это не обеспечивало Стиву роскошной жизни, и он стриг, брил парней перед свиданиями с девушками, продавал табак и лотерейные билеты, ухитряясь наслаждаться жизнью, как и должно неунывающему холостяку в провинциальном городке. Но случилось так, что наводнение добралось и до его лавки, и запасы подмокли.