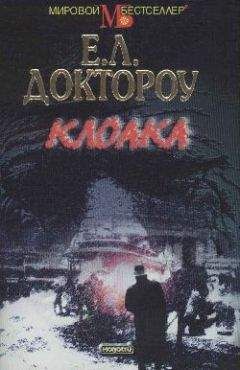Я остановился в тени растущей в горшке пальмы, чтобы зажечь сигару, и вдруг услышал голос Пембертона.
— И кто же этот человек, который отрицает бессмертие?
Ответ раздался со стороны огромного силуэта, в котором я угадал друга Мартина — художника Гарри Уилрайта.
— Одно глупое ракообразное в зале — миссис ван Рейн. Дама в голубом.
— Напиши лучше портрет миссис Ортли в розовом платье, — посоветовал Мартин. — Ты станешь нашим Гойей и прославишься.
— Лучше я напишу весь этот дурацкий бал и стану нашим Брейгелем, — заявил Гарри Уилрайт.
С того места, где стояли оба друга, была прекрасно видна сцена. Пел баритон. Мне кажется, он пел «Erlkцnig» [1] Шуберта. «Du liebes Kind, komm geh mit mier! Gar schцne Spiele spiel ich mit dier…» «О, милое дитя, идем со мной, чудесные игры ждут нас с тобой…»
— К черту искусство, — провозгласил Гарри. — Пошли найдем какой-нибудь приличный бар или салун.
Они пошли к выходу, и Мартин сказал:
— Мне кажется, я схожу с ума.
— Этого следовало ожидать.
— Ты никому не говорил?..
— Зачем мне говорить? Мне даже думать об этом не хочется. Меня это тоже очень сильно ударило по голове. Тебе повезло, что я не отказываюсь об этом говорить с тобой.
Последние фразы были произнесены таинственным шепотом. Потом они ушли.
Если бы не Мэдди, которую надо было отвезти домой, я последовал бы за ними в салун. Эти два друга пьянели совершенно по-разному. Мартин в таком состоянии становился одержимым какой-либо идеей, подчиняя все свои помыслы одному-единственному намерению. Пьяный же Гарри превращался в сластолюбца — его сладострастие разгоралось, но этого здоровяка можно было легко отвлечь, и он либо веселился, как дитя, либо становился плаксивым, как женщина, — смотря по тому, какой предмет привлекал в данный момент его внимание. Мог Уилрайт и нахулиганить. К тому же физически он был намного сильнее, чем его хрупкий приятель. Но силой воли Мартин превосходил Гарри. Все это стало ясно мне далеко не сразу. В тот же момент я ощутил какую-то манящую неизвестность, неизвестность, принимающую неясные очертания, как это бывает, когда в темноте видишь силуэт, который можно определить лишь словами: «Там что-то есть». Больше я тогда ничего не понял. В последующие недели я едва ли отдавал себе отчет, что слишком давно не вижу Пембертона в своем кабинете. Я замечал, конечно, что книги, которые я собирался дать ему на рецензию, постепенно накапливались, вырастая в довольно высокую стопку. Но современная городская жизнь не терпит длительных переживаний. Вас на какую-то минуту охватывает чувство, что вы стоите на пороге озарения, но тут появляются неотложные дела, и вы забываете о своих открытиях. Господи, да явись в Нью-Йорк сам Иисус Христос, мне все равно пришлось бы выпускать мою проклятую газету.
Так что только по милости «Атлантик» и Пирса Грэхема я снова вспомнил о своем лучшем независимом сотруднике. Я не понимал, почему он исчез, и мне страстно захотелось это выяснить. Тому могло найтись очень простое объяснение, но при желании их можно было измышлять дюжинами, хотя в конце концов я убедил себя отказаться от такого изобретательства. Совершенно очевидно, что для начала надо разыскать друга Мартина и хранителя его секретов Гарри Уилрайта. Короче, я уцепился за эту идею. Я довольно хорошо знал Гарри и не доверял ему. Он был пьяница, бабник и совершенно инфантильный тип. Под нечесаной, спутанной гривой его волос видны были налитые кровью глаза, жирные щеки, мясистый нос, полные губы и двойной подбородок субъекта, который всласть ест и пьет, одновременно прикидываясь этакой жертвой и мучеником от искусства. Учился он в Йельском университете, его и окончил. Имя себе сделал на гравюрах, которые присылал с полей сражений Гражданской войны в «Хаперс уикли». Как потом выяснилось, на войне он не был и пороха не нюхал. Он просто собирал наброски, которые присылали с войны другие художники, и делал с них гравюры в своей мастерской на Четырнадцатой улице. Само по себе это, конечно, не было преступлением. Но когда люди восхищались его работами, думая, что они выполнены под обстрелом, он не говорил им, что единственные враги, которые когда-либо его обстреливали, — его кредиторы. Гарри обожал дурачить людей и врал просто так, из любви к искусству. Предки Уилрайта в течение почти двухсот лет были церковными проповедниками, холодно вещавшими с амвонов, и я никогда не поверю, что поза иронического превосходства, которую принял Гарри, не была в какой-то степени конечным выражением снобизма его новоанглийских предков.
В противоположность Гарри, холодное несогласие Мартина, его диссидентство были честными, чистыми и глубоко типичными для всего его поколения. В Мартине чувствовалась цельность. Когда в его глазах появлялось выражение раненого зверя, было очень трудно отделаться от впечатления, что тот же взгляд выражает безумную надежду, что пройдет секунда и мир изменится, оправдав возложенные на него ожидания. Мне стало казаться, что, относись я к Мартину искренне, я доверился бы его цельности и честности и хорошенько бы обдумал его слова об отце. Мне следовало действовать конфиденциально, основываясь на том, что я знал лично, и на том, что говорил мне сам Мартин, соблюдая при этом этику профессии, которой мы оба служили. По правде говоря, я нюхом чую интригу любой истории. Если вы не обладаете таким нюхом, то обратитесь к кому-нибудь, кто будет готов заложить душу, лишь бы вы подольше были лишены чутья на сенсацию. Так и я решил не говорить пока с Гарри на интересующие меня темы, а проверить оригинальную гипотезу. Что вы станете делать, если захотите узнать, жив ли тот или иной человек? Правильно. Вы пойдете в морг.
Скоростные ротационные печатные машины появились у нас примерно в 1845 году, и с этого времени количество материалов на газетных полосах стало быстро увеличиваться, кроме того, возникло больше конкурирующих изданий. Вследствие этого нам пришлось позаботиться о, если можно так выразиться, написании собственной истории, о строительстве хранилища памяти о нашей работе. Создав такое хранилище, мы приобрели бы в свое распоряжение библиотеку наших прошлых репортажей и измышлений, и наши нынешние писания получили бы некоторое основание. При таких условиях никто не смог бы сказать, что мы высасываем наши сведения из воздуха. В «Телеграм» это дело было доверено одному старику, которого посадили в подвале, поручив создать архив. Он оказался гением-самородком на порученном ему поприще. В аккуратном, отполированном до блеска дубовом шкафу, он начал складывать наши издания. Каждый день к стопке прибавлялся новый экземпляр. Но разразилась война, и нашему издателю стало ясно, что можно составлять книги из напечатанных в газетах репортажах с переднего края. Теперь в подвале сидели трое-четверо энергичных молодых людей с ножницами и клеем, которым каждый день клали на стол по одному экземпляру десяти-пятнадцати ежедневных нью-йоркских газет. Работая так, наши молодцы успевали рассортировывать материалы всего с одно-двухнедельным опозданием. Так что, отправившись в этот архив, я был в полной уверенности, что найду там подборку с заголовком: «Пембертон, Огастас».
Впервые этот человек привлек паше внимание, когда его вызвали свидетелем в подкомитет по военным спекуляциям во время слушаний в сенатской Комиссии по армии и флоту. Информация была получена из Вашингтона и датирована апрелем 1864 года. Для нас вся история на этом и закончилась. Мы не знали, что говорил Пембертон на слушаниях, какие выводы были сделаны из его показаний, да и вообще собиралась ли еще когда-либо вышеупомянутая комиссия и каковы были результаты ее работы. Об этом из моей родной «Телеграм» узнать было невозможно.
В том же году в разделе местной хроники имя Пембертона мелькнуло еще раз, и касалось это упоминание деловых афер: некто Юстас Симмонс, бывший правительственный чиновник, ведавший таможенным управлением порта на Саут-стрит, был арестован в Южном районе Нью-Йорка вместе с двумя португальцами по обвинению в нарушении закона о работорговле. Таможенные векселя этого человека оплачивал не кто иной, как Огастас Пембертон.
В этом случае история имела свое продолжение. Шесть месяцев спустя было напечатано сообщение, что дело Симмонса и двух его португальских партнеров закрыто за недостаточностью улик.
Наш репортер, описывавший процесс, был явно раздражен ходом судебного разбирательства. Судьи оказались на редкость небрежны, словно речь шла о каких-то мелких прегрешениях, а не о серьезном преступлении. Обвиняемый Симмонс не проявлял особого волнения перед объявлением решения суда. Не выказал он и какой-либо радости после оглашения этого решения. Узнав об освобождении от ответственности, португальские джентльмены радостно обнялись на глазах у всех, а мистер Симмонс стоял с легкой презрительной улыбкой на устах. Этот рослый человек с лицом, испятнанным оспой, едва кивнул собственным адвокатам и покинул зал суда в сопровождении своего работодателя Огастаса Пембертона, который, как рассказывали в газете в тот же день, продолжал спокойно заниматься текущими делами. Бизнес есть бизнес.