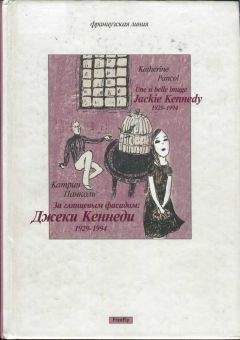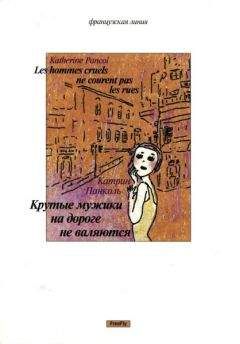У кумушек в очереди за длинным батоном раскрываются рты, загораются глаза, сердца бьются чаще…
А повествовательница, наслаждаясь этим интересом, уже не может отпустить аудиторию и, набрав в легкие воздуха, продолжает…
— Да, забыла сказать, он жил в том же доме, что и мадам Кортес. Она и познакомила его с сестрой, представляете, как она должна себя за это корить! Небось целыми днями кусает локти, пока у нее перед глазами все прокручивается и прокручивается эта история. И не может сомкнуть ночью глаз, совесть ее мучит, мучит… Она даже, верно, говорит себе, ежели хотите знать мое мнение, что сама убила свою сестру. Я-то ее знаю как облупленную, все на моих глазах, соседка как-никак… Ну нет, не совсем чтобы соседка, но соседка подруги моей невестки… Она, она сама толкнула сестру в объятия убийцы, да-да… Я, кстати, его как-то видела в мясной лавке за углом, вот как вас сейчас… Рядом стояли в очереди в кассу, у него еще в руке был такой красивый красный кожаный бумажник, не из дешевых, я хорошо разглядела… Надо сказать, интересный мужчина… Маньяки, говорят, часто бывают обаятельными… Ну да, им же надо охмурить свою жертву. А на какого-нибудь урода женщина и не польстится… И не получит ножом в сердце, как бедняжка Ирис Дюпен…
Жозефина все это слышала.
Слышала, не слушая.
Она читала это по спинам очереди в универмаге.
Смахивала с себя, как пауков, быстрые взгляды любопытных.
И знала, что все разговоры заканчивались одним и тем же: «…Ее сестра — совсем другое дело. Очень красивая женщина. Элегантная, утонченная, красивая — глаз не отвести! Глаза как бездонные озера! А какая стать! Роскошная женщина! Ничего общего с бедняжкой мадам Кортес. Небо и земля».
Она оставалась все той же.
Той же, что и будет всегда.
Жозефиной Кортес. Самой обыкновенной женщиной.
Даже Ширли донимала ее вопросами.
Она звонила из Лондона почти каждый день. Обычно рано утром. Вроде интересовалась, какой сорт камамбера лучше, уточняла, как перевести какое-то французское выражение, или справлялась о расписании поездов. Как ни в чем не бывало спрашивала, как дела, напряженно прислушиваясь к тону Жозефины: «Все нормально, Жози? Ты хорошо спала? Everything under control?», рассказывала смешные истории про свой крестовый поход на сахар, про программу спасения толстеющих детей, про сердечнососудистые проблемы при ожирении, делала вид, что увлечена собственным рассказом, ловила на расстоянии тень улыбки, пытаясь определить ее по секундному молчанию в трубке, вздоху или тихому одобрительному хмыканью.
Тараторила, ходила вокруг да около…
Каждый раз задавала одни и те же вопросы:
— А как твоя диссертация? Когда защита? Хочешь, я приеду и поддержу тебя? А то ведь и правда приеду, ты знаешь… Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Ты не слишком там трусишь? Семь тысяч страниц! Му God! Ты неплохо поработала… Четыре часа выступления! А Зоэ? Уже во втором! Скоро пятнадцать! Ну как у нее дела? А что слышно о ее парне, не помню, как там его? Ну… Сын этого… Гаэтан? Пишет ей письма, звонит… Вот бедняга! Такое перенес! А как Ифигения? Муж-бандит не объявлялся? Ну и слава богу! А малыши? А мсье Сандоз так и не признался? Никак не решится? Надо мне приехать и дать ему пинка для ускорения. Чего он тянет, старый хрыч? Ждет, что у него уши мхом порастут?
Она выпевала фразы, напирала на глаголы, нагромождала вопросы, пытаясь растормошить Жозефину, вытащить ее из зоны молчания, выманить ее всегдашний заливистый смех.
— А что слышно про Марселя и Жозиану? А… Присылает цветы? А с ней разговаривала по телефону… Знаешь, они так любят друг друга… Надо тебе с ними как-нибудь увидеться. Не хочешь? Почему?
Потому что…
— А Гарибальди, симпатягу-инспектора, не встречала? Он на месте? Ну, значит, тебя хорошо охраняют! А Пинарелли-сын? Все с мамашей таскается? Может, он маленько гей, а? А любвеобильный мсье Мерсон? А его колыхающаяся супруга?
А скажи мне, те две квартиры, ну… в них кто-нибудь въехал? А ты познакомилась с новыми жильцами? Нет пока? Видела, но еще не говорила? А та пустует? Ну понятно… Я понимаю, Жозичка моя, но тебе надо заставить себя выходить на улицу… Нельзя вечно пребывать в спячке… Почему бы тебе не приехать ко мне? Не можешь из-за защиты?.. Да, но потом? Потом приезжай на несколько дней в Лондон. С Гортензией увидишься, с Гэри, будем везде ходить, я свожу тебя поплавать в Хэмпстед-Хит, прямо посреди Лондона, это гениально, ты словно переносишься в девятнадцатый век, там деревянный понтон, кувшинки, ледяная вода. Я хожу туда каждое утро и чувствую себя отлично… Ты меня слушаешь?..
Шквал вопросов, попытка встряхнуть Жозефину, вывести из опасного ступора и прогнать единственный вопрос, который действительно ее терзает…
Почему так?
Почему она бросилась прямо в пасть этого чудовища? Этого безумца, хладнокровного убийцы, истязавшего своих жену и детей, превратившего ее в рабыню, прежде чем вонзить нож в ее сердце?
Сестра, старшая сестрица, мой кумир, краса моя ненаглядная, любовь моя, самая красивая в мире, самая яркая и обаятельная, твоя кровь стучит в моих висках, бьется в моих венах…
Почему, вопрошала Жозефина, почему?
Потому что…
Отвечал какой-то незнакомый голос…
Потому что…
Потому что она искала любовь. И взамен была готова отдать себя без остатка, не торгуясь, ничего не выгадывая, — а он обещал ей все счастье мира. Она поверила. И умерла счастливой, бесконечно счастливой.
Она никогда прежде не была такой счастливой.
Почему?
Жозефина никак не могла избавиться от этого слова, которое гвоздем вколачивалось в ее голову, влекло за собой другие вопросы-гвозди, воздвигало вокруг высокие стены, через которые не перебраться.
«А я-то почему жива?
Потому что я вроде бы жива…»
Ширли не сдавалась. Она обеими руками и сердцем тянулась над Темзой, над Ла-Маншем в далекий Париж и ворчала:
— Ты меня не слушаешь… Я прекрасно слышу, что ты меня не слушаешь…
— Мне не хочется разговаривать…
— Ты не можешь вот так сидеть в четырех стенах…
— Ширли…
— Я знаю, что у тебя крутится в голове и мешает жить… Знаю! Ты ни в чем не виновата, Жози!
— …
— И он тоже ни в чем не виноват… И ты, и он тут ни при чем. Почему ты отказываешься это понять? Почему не отвечаешь на его письма?
Потому что…
— Он сказал, что будет ждать тебя, но он не может ждать всю жизнь, Жози! Ты себе делаешь хуже, ему делаешь хуже, а почему? Не вы же ее…
Тут Жозефина взрывается. Словно ей взрезали горло, вскрыли ножом, растерзали на части, обнажили голосовые связки, и она орет в телефон, орет своей подруге, которая звонит ей каждый день, внушая: я рядом, я здесь, я все сделаю для тебя…
— Ну, Ширли, давай договаривай!
— Что за хрень! Хватит, Жози, правда хватит! Так ее не вернешь!
Почему же тогда, а? Ну почему…
Потому что…
И пока она не сможет ответить на этот вопрос, жизнь ее не сможет продолжиться. Она так и будет бездвижной немой затворницей, которая больше не улыбается, не кричит от радости или наслаждения, не замирает в его объятиях…
В объятиях Филиппа Дюпена. Мужа Ирис.
Мужа ее сестры.
Человека, с которым она разговаривает по ночам, зарывшись лицом в подушку.
Она хотела бы вечно оставаться в его объятиях.
Но ей надо забыть его как можно скорее.
Наверное, она тоже умерла.
Ирис утащила ее, увлекла за собой в вальсе при свете фар, подставила под разящий удар кинжала с длинным лезвием. Раз-два-три, раз-два-три, идем со мной, Жозефина, пошли отсюда… Вот увидишь, это так просто!
Ирис опять придумала новую игру. Как тогда, в детстве.
Страшный Крюк хотел схряпать Крика и Крока, но они сами его схрумкали.
И все же на лесной полянке в ту ночь победил страшный Крюк.
Он схряпал Ирис.
И скоро схряпает Жозефину.
Жозефина ведь все всегда повторяла за Ирис.
— Да, я понимаю, Жози, — уговаривала ее по телефону Ширли, — именно так, ты хочешь к ней… Ты будешь делать минимум необходимых дел, жить для Зоэ и Гортензии, оплачивать их занятия, быть доброй мамочкой и запрещать себе все остальное! Ты не имеешь права быть женщиной, потому что та, что была настоящей женщиной, ушла. Ты сама себе это запрещаешь! Ну так вот, я твоя подруга, и я против, я не согласна…
Жозефина бросает трубку.
Ширли перезванивает и опять повторяет одни и те же слова, они рвутся в ярости из ее уст:
— Но я не понимаю, ты ведь спала с ним сразу после смерти Ирис, вы жили только друг для друга, и что теперь? Ответь, Жози, ответь!
Жозефина роняла трубку, закрывала глаза, сжимала голову локтями. Не вспоминать об этом времени, забыть, забыть… Голос в телефоне бился и метался, как маленький разъяренный злой дух.