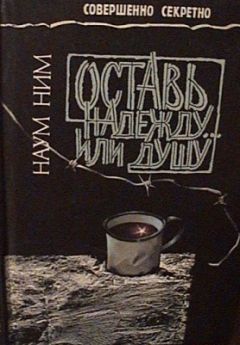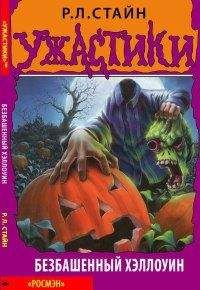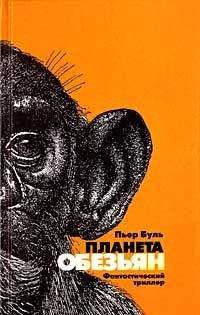— Мне наплевать, за что они там помирают, и я не прятался в погребе! Я в рожи их сказал, что в Афган не пойду, — за то и срок тяну, ясно тебе?! И каждый мог отказаться! И ты мог отказаться! Так что за меня никто не помирает! Вас чеками соблазнили, да сказочкой по ушам шоркнули, что, мол, правое дело, чтобы убивать не стыдно было — так вон тех, что на вышках с автоматами, тоже сказками пичкают, какие мы здесь мрази.
— Ты меня с ними не ровняй! Я Родину защищал и тебя, паскуду трусливую, вошь вонючую, пока ты в своих институтах мозги сворачивал!..
— Родину?! А может, ты еще и в Иран какой-нибудь пойдешь? Может, у тебя и там Родина? Защитничек… Таких защитников захватчикам везде зовут… В Афгане у него Родина…
— Ах ты.
— Хорош, — рявкнул Матвеич, что бывало с ним редко, и готовые уже сцепиться Берет с Голубой затихли, тяжело дыша и не отходя друг от друга, не поворачиваясь один к другому спиной. — Что разорались на весь продол? Кумовьев захотелось потешить?!
— И то — дело, — подал голос Пеца. — Разбазарились, глотки луженые. И чего орать, — ворчал он, — кулаков что ли, нету…
Вадим передвинулся на своем матрасе с уже пропотевшего места на краешек, пощупав заодно сверток с пайкой.
Проход снова был свободен, а шконки качались, принимая опять в свой душный смрад Берета и Голубу, ярость которых так же мгновенно схлынула, как и накатила на них минуту назад. Только недовольное бурчание лопалось где-то справа от Вадима, там, где умащивался Берет.
— А был бы ты, Голуба, умнее: отслужил бы тихонечко свои два — и дома, — не спеша выпускал слова, выбираясь из своей норы, Кадра — обвисший весь складками грушеобразный хозяйственник, получивший десятку (два «андропа», по-здешнему) за целый букет каких-то невразумительных статей, злоупотреблений, где самым понятным камерному люду было взяточничество. Кадрой его прозвали за привычку всовывать всюду излюбленное «руководящие кадры» — от привычки отучили вроде, а имя прилипло. — Тебя же после всех этих фокусов ни в какой Афганистан не взяли бы, побоялись, ну и надо было соглашаться. Впихнули бы куда-нибудь в стройбат…
Кадра разминал отекшее свое тело в сквозном проходе, почесывая густую серую шерсть на груди.
— Теперь вот сидеть тебе по собственной дурости, — продолжал он не спеша, прижмурившись от удовольствия, которое ему доставляло почесыванне.
— Тебе ж, Кадра, больше сидеть, ты бы себя поучил, — незлобно отозвался Голуба.
— Меня освободят, — уверенно заявил Кадра. — Руководящие кадры, да с моим опытом работы, сейчас ой как нужны.
— Ага, нужны, — весело подначил Берет. — А то разучатся взятки брать, если ты опытом не поделишься…
— Что же касается Афганистана, — сбить Кадру, если он начал говорить, было почти невозможно, только под угрозой физической он утихал, но и то долго еще рассуждал еле слышно сам с собой, так что ничего удивительного не было в том, что на Берета он и не отреагировал никак, — проблема Афганистана очень сложная. Если бы не мы — американцы бы туда пришли, ведь этот отсталый народ необходимо цивилизовать, они же хуже свиней….
— Слушай, Кадра, — вмешался опять Матвеич, — тебе не приходилось слышать где-нибудь в своих парткомах, что нет плохих народов…
— Ты, Матвеич, наивный, как ребенок, ну как Голуба прямо, и сидишь вот за это. — Кадра остановился в проходе Матвеича и увещевал его. — Одно дело говорить, а другое — знать. Говорить надо, что нет плохих народов, но нельзя забывать, что народы бывают разные: вот литовцы, например, они все такие сволочи, что надо было их еще до войны — всех под корень. Я долгое время работал там на руководящих постах и видел, как они нас ненавидят.
— И прямо все сволочи?
— Дай им волю — они нас всех перережут. Они же так фашистами и остались. Ты вот не знаешь, а они все немцев хлебом-солью встречали.
— Ты-то откуда знаешь? — закипал Матвеич. — Видел что ли?
— Видел, — начал горячиться и Кадра. — Это ты, молодой, не видел, а я видел.
— Как же ты, Кадра, видеть мог? Ты с немцами шел или с теми был, кто хлебом-солью?..
Слитный хохот вспорол плотную духоту камеры. Кадра что-то пытался сказать, но голоса его не слышно было, и только губы шевелились беззвучно, да затылок краснел, да голова тряслась, и все тело колыхалось мелко, как студень.
— Ой, не могу… — заливался рядом с Вадимом Ларек, и шконка его ходуном ходила. Все понемногу успокоились, а Ларек продолжал заливчато колотиться, не в силах прекратить, и даже всхлипывал от смеха. Глядя на него, хотелось смеяться уже просто так, заражаясь его смехом.
— Ты-ты… Дубина… Молокосос… — переключился Кадра на Ларька, задыхаясь возмущением. — Ты кроме ларьков не знаешь ничего…
— Ой, держите меня… — продолжал дрыгаться на шконке Ларек. Постепенно он утих, и снова со всех сторон облепила вязкая душная завеса. Вадим сполз с промокшего матраца на пол, освободил ноги из нагревшихся туфель и вытянул их вдоль узенького своего прохода. Время остановилось. Вадим глянул на противоположную стену, где Берет разметил по грязной штукатурке солнечные часы — золотистые иглы меняли направление в течение дня, и благодаря этому можно было приблизительно следить за временем, которое здесь прекращало свое равномерное движение; со времени завтрака прошло еще чуть более получаса, и Вадим, сдержав горечь, принялся настраивать себя на долгое ожидание прогулки. Время постоянно норовило остановиться; его обманывали, проталкивая долгими разговорами, пережевывая вместе с никому не нужными словами, подталкивая ожиданием газеты, прогулки, обеда — невозможно было вместить в себя бесконечность целого дня, не раздробив его на доступные выживанию порции. Вадим слышал, что в карцере плохо, видел тех, кто там побывал, но все зримо плохое: еда через день, отсутствие курева, прогулок, книг, газет — все это казалось терпимым, а вот огромные куски времени, которые можно измельчать только собственными мыслями — это представлялось до сумасшествия невозможным: ведь мысли не помогают избыть ненужное время, они — наоборот, — замедляют его, и, пережив внутри себя всю жизнь заново, сдвинешь ношу времени на минуту какую, не больше.
Вадим устроился поудобнее, свернувшись на полу возле своего матраца. Здесь, у самого пола, дышать вроде легче, но никак не пристроить было измученные кости на выщербленных досках, перехваченных железными полосами. Снова нестерпимо захотелось почесать искусанные места, но Вадим сдержался, чтобы не менять удачно найденного положения.
Закурить бы сейчас. Вспомнилось, как приятно было курить в машине. Как-то он стоял, поджидая приятеля, и обшарил всю машину — ни сигаретки. Ситуация — из рук вон: и отъехать нельзя — приятель вот-вот выйдет, и курить хочется так, что уши пухнут. Он сам не понимал, как его угораздило: всегда ведь в машине держал запас. И уже до того дошел, что наплевать было на приятеля этого и на то, что хороший куш может пройти мимо — решил ехать. Вот в эту минуту и заметил Вадим на тротуаре под дверцей сигарету. В жизни с ним не было такого: бычок или еще что с земли подобрать, а тут оглянулся, чтобы не видел никто — ведь засмеют, проходу не будет, — дверцу приоткрыл и ухватил сигаретку. Посмеивался Вадим сам над собой, но сигаретку размял и такое блаженство, такой покой после недавних терзаний — ничего не надо уже. Спичку зажег, а прикурить не может, видно, порвана сигарета оказалась, потому и выбросили. Тянет Вадим без толку, и спичка уже догорела. Ему бы спичку выбросить, а он сигареткой занят: все пытается затянуться, а спичка уже пальцы обжигает, и не стряхнуть никак, прилипла, зар-ра-за, да больно же!..
Вадим вскочил, махая рукой, не понимая ничего, чувствуя только нестерпимую боль между пальцами. Комок горящей ваты вывалился от этих его взмахов, и Вадим, всхлипнув тихонечко, скрутился в своем углу.
— Во дает Саламандра, — гоготнул Ворона, — из огня целехонек. Одно слово — Саламандра…
— Ворона, ты тупорылый, что ли? — привстал у себя Голуба. — В хате дышать нечем, только ваты горелой не хватало.
— Зач-чем палил, пп-падла? — Заревел Пеца. — В стойло захотел?
— Да я ж ничо, — забормотал Ворона. — Я ж, мужики, ничо… Это ж он опять… Ему сколько говорилось на полу не спать — на полу одни черти спят, а люди на матрацах спят, от него ж вшивота пойдет. — Ворона торопился, спешил переключить взбухающее раздражение камеры на Вадима. — Он языка ж не понимает.
— Ворона, глохни, — вступил Берет. — Еще раз закосишь — на веник месяц. А ты, Саламандра, гляди — к параше пойдешь спать.
Снова плотное месиво затянуло прорехи, образованные в нем голосами; только пузырями лопались всхлипы тяжкого дыхания где-то рядом, нет, не рядом — это его собственное дыхание. Вадим все еще вздрагивал, с запозданием понимая все, происшедшее только что в камере. «Господи! — беззвучно взмолился он. — Я не могу больше, Господи… Сделай так, чтобы не звали меня Саламандрой… Сделай что-нибудь…»