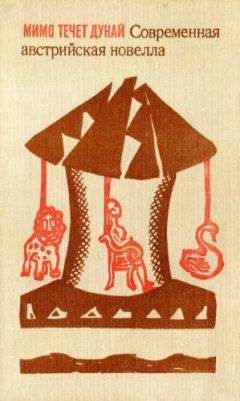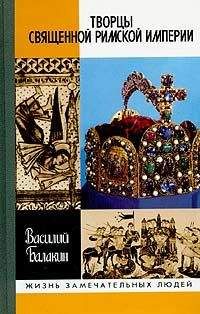— Что он носится с этими девками! Мерседес, Анабелла! — Потом чуть спокойнее: — Это еще на что-то похоже, эту хоть можно звать Анни. А Лисею — Лиззи. — И опять возвышала голос до крика: — Но Амадея! Долорес! Все имена сплошь из модных журналов — так называют модели платьев, там он их и выискал, этот старый идиот! В наших краях девушек всегда звали Рези или Мицци, я от этого не отступлюсь, пусть они крестятся заново. А что вы на это скажете — вы же учились в университете?
Я вообще старался говорить как можно меньше — даже в тех случаях, когда одна из сестриц занималась, так сказать, анатомической критикой остальных, — это они делали с большим пылом. Долорес сказала мне однажды:
— Я просто не понимаю, как это может тебе нравиться: такие широкие бедра и такие короткие ноги, а уж что говорить о… — Но тут ладонь Мерседес со звоном опустилась ей на щеку. В тот же день Анабелла сказала мне, подливая масла в огонь:
— Ты нежишься в кровати, а мы должны валяться на полу, на тюфяках. Черт знает что такое.
Я взял немного денег из банка и купил кровать. Мерседес ругала меня, почему я не купил сразу двухспальную, но Лисея, когда мы как-то остались с ней наедине, сказала:
— Мне бы и эта кровать подошла, только бы обновить ее вместе с тобой! — И добавила, поглаживая себя по стройным бедрам: — Уж мы бы уместились!
Через несколько дней нам с ней представилась возможность измерить вдвоем ширину кровати, но после этого я спал опять с одной Мерседес.
Однако недели через три Лисея отвела меня в сторону, схватила за руку и, опустив глаза на носки своих туфель, сказала сдавленным голосом:
— Что ты со мной сделал!
Я спросил:
— А что?
— Можешь и сам догадаться!
Сам я, конечно, догадался, ибо она упорно смотрела на носки своих туфель. На какую-то секунду я, словно через лупу, увидел увядшую кожу ее лба под черной челкой; оторопело глядя на нее, я сказал:
— Но я же был начеку!
Тут она пришла в ярость, крикнула мне в лицо:
— То-то и видно, как ты был начеку! — И выбежала вон.
Я побежал за ней следом и спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж; спросил едва слышно — от страха у меня заныло под ложечкой. Она прижалась лбом к стене и сказала:
— Может быть, я застудила или еще что-нибудь… всякое бывает… Подождем еще месяц. — И, едва не плача, добавила: — Оставь меня.
Как раз к этому времени я всерьез собрался напомнить старику о своем деле — ведь до сих пор оно не продвинулось ни на шаг. Но при сложившихся обстоятельствах я бы не решился предъявить ему какие-либо требования. Все в этом доме были исполнены к нему прямо-таки безграничного почтения (особенно в его присутствии); он даже имел право не затворять за собой двери, не опасаясь немедленного окрика супруги: «Сквозит!» Такое же почтение питал к нему и я. Быть может, ему это нравилось; так или иначе, но именно в ту пору он без всякого внешнего повода как-то раз, когда мы были с ним наедине, завел со мной разговор.
— Всю свою жизнь я гнул спину, чтобы им было хорошо. Все бремя я взвалил на себя, ради них даже сел на скамью подсудимых; я отказываю себе во всем — не пью и не курю — только ради них. Однако, — и тут его до сих пор плаксивый тон зазвучал угрожающе, — однако быть отцом — значит сознавать свои обязанности. Обязанности!
Я вздрогнул, словно от удара по лицу, а он продолжал:
— Я всегда выручал своих девочек — что бы они ни натворили. Им, бедняжкам, нелегко. Из них мог бы выйти толк — но при такой мамаше? Она каждый раз все портит, каждый раз! «Закройте дверь, сквозит!» Да-с. Меня-то уж жалеть нечего, я все беру на себя, лишь бы девочкам было полегче. — Тут он поднялся, встал среди своей обшарпанной мебели, воздел руки к потолку и, неподвижно глядя вверх, торжественно возгласил:
— Но они рождены для лучшей доли! И я продержусь до тех пор, пока девочки чего-то не добьются!
И он снова рухнул на скрипучий диванчик, глаза его сомкнулись, и он захрапел, пуская изо рта слюну пузырьками.
Когда прошел месяц, назначенный Лисеей, и сомневаться больше было нельзя, мы еще раз поговорили, и я твердым голосом заявил (под ложечкой у меня еще пуще заныло от страха):
— Я женюсь на тебе.
Но у нее было совсем другое предложение, и вот через несколько дней мы с ней отправились туда с утра пораньше, потому что с утра Мерседес сидела в конторе — она была занята полдня. Лисея сказала:
— Просто счастье, что я попала к этому человеку, меня к нему устроила одна приятельница. Но только он делает это не в клинике, а на квартире — не у себя дома, а у медсестры, которая ему ассистирует. Тут необходима предельная осторожность, — сказала она и, пристально глядя мне в глаза, добавила: — Умоляю тебя, держи язык за зубами. Дома — ни звука, не то старик меня убьет. Сестрам тоже не говори, они обязательно протреплются.
Пришлось дать ей честное слово, и мне вдруг показалось, что я все еще маленький мальчик.
Квартира, куда мы пришли, занимала второй этаж загородной виллы в районе Фрейнберга. Ни на калитке, ни на двери дома не было таблички с фамилией, обитатели дома не представились нам, только я с перепугу назвал свою фамилию, но здесь это никого не интересовало. Богатая обстановка поразила меня уже в передней, увешанной картинами; в следующей за ней большой комнате стояли тяжелые шкафы, массивный буфет, а вокруг курительного столика — кресла для господ весом эдак пудов в восемь. Со всем этим никак не вязалась раскладная кровать, накрытая ослепительно-белой простыней, а поверх простыни еще желтоватой клеенкой или пластиком; возле этого импровизированного операционного стола на ковре стоял белый таз, еще там стояла открытая сумка — вроде тех, какие носят сельские врачи: с бинтами, ватой, шприцами, ампулами и гинекологическим инструментом. Пока я сидел и ждал в передней, я чувствовал какое-то щекотание под коленками: словно что-то легкое и совершенно бесплотное ползет вверх по ногам — надо сказать, премерзкое ощущение, точь-в-точь такое же, какое было у меня однажды на фронте, когда я вдруг получил от нее письмо, где она сообщала мне, что легла в больницу, что она решилась (когда мне вручили это письмо, моему сыну было, как потом выяснилось, уже две недели). И вот с этим ощущением я сидел в передней и ждал — я ведь думал, что врач это сделает сейчас же. Но минут через пять Лисея вышла, плотно прикрыла за собой дверь, посмотрела на меня большими печальными глазами и сказала:
— Да.
А после небольшой паузы добавила таким тоном, будто намеревалась дать понять, что охотнее всего оставила бы ребенка:
— Это будет стоить две тысячи шиллингов. И еще пятьсот шиллингов сестре.
Я ничего не сказал, только кивнул.
Тогда она снова зашла в комнату, а на обратном пути я взял в банке деньги и отдал ей. На следующее утро я опять отвез ее в эту виллу и в полдень приехал за ней. От нее пахло хлороформом, и меня чуть было не вырвало; сидя в такси, я удивлялся, что шофер ничего не говорит и не спрашивает. Она два дня пролежала в постели; больше мы об этом никогда не говорили, и в дальнейшем я спал по-прежнему только с Мерседес. Так прошел целый год. Вместо пестрых тряпок на окнах висели теперь настоящие занавеси, в кухне стояла новая газовая плита, и Мерседес каждые две-три недели покупала себе то новое платье, то новое пальто, то новые туфли, потому что ношеные вещи она дарила сестрам. Все комнаты были заново окрашены, зато мой банковский счет иссяк, и я занял немного денег у тети Иды. Я рассказал ей, что живу в Линце и собираю материал для дипломной работы об Адальберте Штифтере — он ведь жил в Линце (на самом деле я закончил только третий курс). С кислой миной она дала мне денег и потом давала еще много раз — сколько бы я ни просил: дело в том, что в отчаянном приступе откровенности, мне самому непонятной, я признался ей, что сижу в Линце еще и ради того, чтобы отыскать следы прадедушки. Целый вечер она говорила со мной на эту тему, в ее болезненно-тусклых глазах заиграл какой-то металлический блеск; на дряблой шее под черной бархоткой напряглись жилы, и она беспрестанно повторяла:
— Ты должен это выяснить, да, да, ты, конечно, выяснишь, кто он был. Ведь в нашей семье ни один человек не дал себе труда этим заняться — меньше всего твой дедушка, и, к сожалению, упущено столько драгоценного времени. Все остальные только болтали. — И тут в ее глазах загорелась глубокая, давно накопленная ненависть. — Да, только болтали и болтали об этом, словно речь шла о каких-то обыденных пустяках — о вчерашнем обеде, о кино, — а делать ничего не делали. Какое положение мы могли бы занять, если бы все выяснилось!
Когда-то, получив от нее письмо на шести страницах, я было вообразил, что на нее произвела впечатление моя научная обстоятельность; теперь только я понял, что точило ее все эти годы. Она положила мне на голову свою маленькую высохшую руку, с хрипом втянула в себя воздух и сказала: