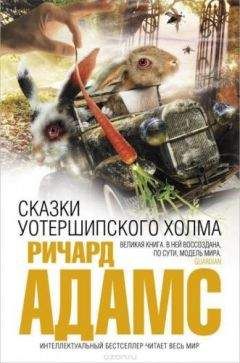И сейчас, стоя под бегущими по телу струйками воды, она вспомнила эти стихи и забормотала их, подставляя воде лицо, и оттого строки звучали с каким-то прекрасным журчащим сопровождением:
А я соблазнил королевскую дочь,
И жить мне осталась всего только ночь…
А в старом замке,
Наглухо замкнутом,
Преклонит колено
Моя королева…
Безумные глаза Варшавского внезапно выплыли из свеже-рассеченного пласта памяти, и она услышала его срывающийся, наполненный мольбой голос, но ничто не шевельнулось в ней. И она совершенно спокойно подумала, что он ей лгал в каждом слове, выворачивал наизнанку каждую фразу ради одного – обладать ею, прикасаться к ней, любить ее глазами и телом, и ради этого обладания он готов был причинить ей любую боль, как будто все им говоренное раньше, все прекраснодушное и многомудрое осталось за бортом этого неуправляемого, отданного сокрушающим волнам суденышка – этой неизбывной и всепоглощающей страсти…
Она вышла из ванной, почти не чувствуя своего тела, оно будто одеревенело, покрылось гусиной кожей. Сжав зубы, она смазала ранку иодом и заклеила пластырем. И в эти минуты все произошедшее с ней внезапно вспыхнуло в ее памяти полузабытой сценой из давно виденного черно-белого фильма, когда женщина бежит по узкой пустынной улице, слыша за спиной учащенное дыхание преследователя, отчаянно толкаясь в первые попавшиеся двери, которые как назло все заперты. Казалось, от погони уже не уйти и вот-вот наступит развязка, но внезапно чья-то добрая рука отворяет дверь к спасению…
И она подумала о том, что эти, похожие на страшный эпизод преследования несколько безумных часов, вырванных из нормального существования, из ежедневной рутины, этот бег почти на пределе, на сужающем аорту хрипе, не обескровил ее и не сломал, а стал апофеозом хрупкой человеческой души.
И в этом заключалась самая неопровержимая, самая главная победа в ее жизни.
Некто позвонил в понедельник рано утром и оставил невнятное сообщение, из которого было понятно, что человеку позарез необходимо увидеть психотерапевта, но ни имени, ни координат звонивший не назвал. Второй раз он позвонил ближе к вечеру и в той же манере с кашей во рту выдавил свое имя – Александр – и просьбу назначить время. Юлиан ему перезвонил через полчаса. Разговор получился почти односторонний. Мужчина мялся и, как показалось Юлиану, был пьян, язык его заплетался, и он бубнил что-то о денежных затруднениях, но когда Юлиан предложил сделать бесплатную консультацию, неожиданно пробормотал: «Нет-нет, я заплачу. За бесплатно здесь ничего хорошего не бывает».
Клиент, однако, в положенное время не явился. Юлиан прождал его четверть часа, потом закрыл свой лэптоп, чертыхнулся и, не запирая офиса, пошел в туалет. Когда он вернулся, увидел в приемной скрюченного, сидящего с обреченным видом человека.
– Вы хотя бы позвонили, что опаздываете, – сказал Юлиан. – Мое время очень дорого стоит. Я же вас предупредил, когда мы говорили по телефону, что надо приходить на прием заранее, минут за десять, чтобы отдышаться, собраться с мыслями, – это в ваших – не в моих интересах.
Мужчина виновато пожал плечами и, не поднимая головы, произнес что-то неразборчивое, при этом он покрутил костлявой кистью, на которой болтались наручные часы, опоясанные дешевым затасканным ремешком. Во всем его облике чувствовалась небрежность опустившегося, безразличного к одежде человека. На нем мешковато сидела серая куртка, забрызганная бурыми пятнами от вина, брюки лоснились на коленях, выдернутые нитки торчали во все стороны, а по черным нечищеным башмакам можно было бы воссоздать облик тупорылого угольного утюга прадедушкиных времен. На одном башмаке шнурки развязались и свисали двумя иссякающими струйками.
– Я ведь не могу подлаживаться под вас, под ваше расписание, мы уже потеряли двадцать минут времени, – продолжал с некоторой садистской настойчивостью распекать клиента Юлиан, но в эту минуту мужчина поднял голову. Что-то в его лице было подкупающе искреннее, и в глазах у него мелькнула печальная обреченность, за которой чувствовалась не суетная попытка оправдаться, а внутреннее достоинство, шаткое, но все же еще не задавленное окончательно обстоятельствами жизни.
– Ладно… Вам повезло, что после вас у меня никого нет, так что можем начать сеанс через пять минут…
Александр неуклюже стащил с головы жалкую кепку, оголив нежно опушенную плешь и ровно ниспадающие с затылка пряди русых волос. Без кепки он сразу приобрел облик более благородный, чем-то напомнив Алешу Карамазова из пырьевского фильма.
– Знаете, с этими часами происходят непонятные вещи, – сказал он. – Останавливаются без всякой причины. Когда им захочется. Я уж батарейку два раза менял.
– А вам не приходило в голову, что батарейка здесь ни при чем. Часы старые, их жизненный цикл подошел к концу, – все еще немного раздраженным тоном ответствовал Юлиан.
– Может быть, вы правы, у меня с недавних пор возникло ощущение, что часы просто копируют меня. Кругооборот механизма повторяет кругооборот организма.
– Ну, вы еще не в той возрастной категории, чтобы говорить о своей изношенности, а если есть причина и она в моей компетенции – расскажите. Я здесь, чтобы вам помочь.
Пациент какое-то время молчал и вдруг заговорил, словно преодолел свою скованность, выплюнул изо рта камешки косноязычия, и голос его зазвучал по-другому:
– Жизнь потеряла смысл. Я вот вслушиваюсь в эту фразу. И понимаю, что она – как абсолютно замкнутая система. Ее можно произнести и так: смысл потерял жизнь – такое зеркальное отражение модели бытия, лишенной будущего. Неизбежная дуэль между словами «смысл» и «жизнь», и они поражают друг друга, на каком бы расстоянии они не отстояли друг от друга. Бессмыслица жизни и безжизненность смысла – две тупиковые улицы. Никуда не ведут, а назад повернуться – значит стать перед другой неразрешимой задачей: куда же двигаться?
Он запнулся и виновато посмотрел на Юлиана.
– Извините за всю эту софистику, мне просто самому надо понять… У меня ум за разум заходит, я чувствую, что во мне идет такой процесс саморазрушения, и я не знаю, как его остановить, и наверное, даже не хочу его останавливать. Меня когда-то зацепила одна фраза из братьев Карамазовых: «Все отвечают за всех». Она мне всегда казалась неким оправданием русской идеи, поиском смысла жизни через такой христианский социализм, что ли… Вы, вообще, как относитесь к Достоевскому?
– Как я отношусь к Достоевскому? – задумчиво переспросил Юлиан, и снова почувствовал нарастающее внутри раздражение, но тут же подавил его и, слегка пожав плечами, ответил:
– Я не являюсь его большим поклонником, он мне, знаете ли, напоминает человека, который мечется в поисках им же самим запрятанных ценностей, роет сложные ходы, а за ним в эти катакомбы лезут его герои, не очень-то понимая, почему их уводят к истине такими непростыми путями. То есть психику человеческую он постоянно испытывает на разрыв, и это мне, как психологу, интересно… до определенного момента. Но возникает вопрос, что же движет автором? И я прихожу к выводу, что движут им одновременно и возвышенные, и низменные страсти: деньги, страсть к игре, любовь к русской идее или ненависть к чужакам, осквернившим эту идею… А почему вы спрашиваете: не все ли вам равно, как я отношусь к Достоевскому?
– Простите меня, вы правы, я просто подумал, что в моей теперешней жизни вот эта формула: «Все отвечают за всех» была бы моим спасением.
– Скажите, какая у вас специальность? – спросил Юлиан.
– Я поэт.
– Поэт – это не специальность.
– Возможно, но для меня на сегодняшний день поэзия – та соломинка, за которую я хватаюсь и даже удерживаюсь на плаву. Я сейчас пособие получаю, нигде не работаю, иногда пописываю в газеты, журналы… Они мои стихи печатают, но редко. Стиль мой не очень подходит, не та тематика. Но это моя жизнь. Мое последнее алиби и оправдание моего существования перед Богом.
Он сотворил улыбку, больше похожую на гримасу, и достал из бокового кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
– Я прошлую ночь не спал, все думал, как я буду психотерапевту о себе рассказывать, какими словами… Ничего так и не придумал, зато написал стихи. Можно я вам почитаю?
Юлиан кивнул.
– Я не вычитывал еще и знаки препинания не везде проставил. Это я так, для себя отмечаю… Вот, послушайте:
Мне досталось место в первом ряду партера…
Кино уже началось. Я ненавижу сидеть
в грубом приближении к экрану,
где лица актеров напоминают
марсианский пейзаж с ручейками капилляров,
впадающих в глубокие ущелья морщин,
рассекающих лицо от крыльев носа
до подбородка…
И нетрудно увидеть пещерные наросты
в ноздре главного героя
и следы оспин на его щеке
и воронью лапу у виска…
а пот, проступающий на лбу,