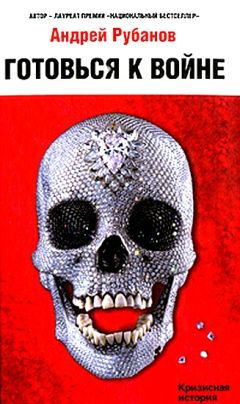Тогда, в девяностом году, над липким стаканом портвейна, он признался себе, что на такое не способен. И заплакал. Понял, что расколотившие его гитару «быки» в черной коже — любители блатных баллад на три аккорда — правы.
Если бы не они, он сам бы ее разбил.
Не доехав километр до поворота на «свою» дорогу, Знаев захотел пить и остановился возле магазина. Он проезжал мимо каждый день на протяжении нескольких лет и все время ждал, когда заваливающаяся набок избуха, выкрашенная в ядовито-салатовый цвет, в народе называемый «веселеньким», окончательно рухнет. Но заведение жило. И недавно даже обзавелось вывеской: «Принимаем платежи!» Какие именно платежи тут принимают, не уточнялось. Видимо, любые. Хоть какие-нибудь.
Вошел в душный, пахнущий старым деревом и прокисшим пивом зальчик. Пожилая продавщица с розовым лицом обмахивалась, как веером, стопкой мятых накладных.
— Бутылку воды, пожалуйста.
— Какой?
— Любой. Без газов. Полтора литра.
— Из холодильника? — Да.
— Холодной нет.
— Давайте какая есть.
— Есть «Бонаква», — подумав, сказала розовая. — И «Акваминерале».
— Все равно.
— «Бонаква» — только литровые.
— Пусть будет литровая.
— Сейчас принесу.
Удалилась. Было слышно, как в подсобке передвигаются ящики.
— Зоя, где у нас вода?
— Какая?
— «Акваминерале». То есть «Бонаква».
— Вон, в углу стоит.
— Там «Бонаква».
— А тебе какая нужна?
— «Акваминерале».
— Я их все время путаю.
— Я тоже.
— Слушай, подруга, когда уже мы тут порядок наведем?
— Никогда, Зоя. Ни-ко-гда. Я тут пятый год убиваюсь. И каждое утро говорю себе: «Пора порядок навести, пора порядок навести…» Потом наступает вечер, я думаю: «А ну его в жопу, этот порядок», — и домой уползаю… А нам вообще сегодня воду привозили?
— Не помню. За пиво — помню, а за воду не помню… Нашла, что ли?
— Ищу. Ага, вот она, сучка! Мужчина, вам ведь нужна «Бонаква»?
— Да, «Бонаква».
— Она не холодная.
— Сойдет. Давайте.
— Подождите. Я нашла «Акваминерале». Сейчас откопаю. Вот она. Вам литровую или полтора литра?
— У вас какая в руках?
— Литровая.
— Давайте.
— Хотите, я поищу полтора литра.
— Не надо! Давайте литровую. Сколько стоит?
— Ценник на витрине.
— Нет, — сказал банкир, — там ценника.
— Да? Странно. Вчера был… А вода стоит тридцать пять рублей.
Знаев вынул купюру. Розовая вздрогнула.
— Ой, а помельче нет?
— Нет.
— У меня не будет сдачи.
— Ну и черт с ней.
Розовая метнула строгий взгляд.
— Как это «черт с ней»? Так нельзя.
Поискала в карманах фартука. Открыла и закрыла дребезжащую кассу.
— Подождите. Сейчас спрошу у сменщицы.
Поставь она бутылку на прилавок — банкир бросил бы деньги, взял, что нужно, и ушел. Но продавщица держала товар в руке. Пока Знаев соображал, как ему изловчиться, перегнуться и выхватить емкость, чувиха, медленно повернувшись, опять удалилась.
— Зоя, разменяй мне крупную!
— Откуда?
— Посмотри, может, мелочью наберешь.
— Девушки, — крикнул банкир, — не надо мелочи! Дайте мою воду, и разбежимся.
— Сейчас, сейчас, — возразили ему на два голоса. — Уже нашли.
Знаев почувствовал тошноту и загрустил.
— Эта рваная, — говорили за стеной.
— Ну и что? Тоже деньги.
— Да ладно, не позорься. Сколько набрала?
— Не мешай, собьюсь.
— Вот, — радостно провозгласила женщина, вернувшись. — Сто, двести триста… Пожалуйста.
— Спасибо, — прохрипел банкир. — А где вода?
— Ой. Сейчас.
Очередной — уже третий — плавный разворот, мощное покачивание необъятных бедер, шарканье шлепанцев, неспешное отступление за пределы видимости.
— Зоя, куда я ее поставила?
— Кого?
— Да воду же, «Бонакву» проклятую! Только что тут была… От этой жары совсем башка не хочет работать…
— И не говори… Вон она, твоя «Акваминерале».
— Не издевайся. Та была «Бонаква».
— Давайте любую! — выкрикнул Знаев.
— Мужчина, что вы нервничаете? Сами сказали, что вам нужна «Бонаква», литровая…
Слушайте, вы! — хотел заорать он. — Я прямо сейчас куплю весь ваш сарай вместе со всем товаром, и с вами в придачу! И тут же сожгу, и место велю распахать, чтоб от этого вашего русского бизнеса даже духа не осталось!..
Но не закричал. Сдержался. Шатаясь, бросился вон, на воздух. Синее небо, желтое солнце — все содержало издевку. Залез в свой сверхмощный драндулет, рванул с места, слыша, как с диким хрустом проворачиваются по грязной обочине колеса; краем глаза увидел в зеркале серую пелену взметнувшейся пыли.
Потом уже смотрел только на тахометр. Переключал передачи не раньше, чем стрелка касалась желтого сектора.
Все в порядке. Будь спокоен и весел. Их нельзя презирать. Не за что. Они не виноваты. Они всегда были такими. Их нельзя остановить или переделать. Также нельзя уменьшить их количество. Хуже всего то, что они самовоспроизводятся; однако и здесь, увы, им невозможно помешать. Великий физиолог Павлов изучал механизм условного рефлекса. Дрессировал собак. Заставлял их ходить на задних лапах и лаять по команде. За это вожди Советской страны боготворили Павлова. Молодец, академик! Так ведь можно дрессировать целые народы! Тем временем другой гениальный ученый — Вавилов — продвигал генетику. Доказывал, что признаки живого организма передаются по наследству. За это вожди Советской страны поспешно уничтожили генетика. Казнили. По Вавилову, получалось, что дурака и бездельника, конечно, можно научить хорошо трудиться — однако всякий дурак, достигнув половой зрелости, немедленно родит точно такого же дурака, и процесс дрессировки придется начинать сначала.
Давно умерли и Павлов, и Вавилов. Закопаны и сгнили вожди Советского Союза. И самого Союза больше нет. А дураки по-прежнему неисчислимы. И прекрасно себя чувствуют.
В последний поворот он вошел чрезмерно резко, а когда понял ошибку, тут же совершил вторую: слишком поспешно переложил руль. Нескольких лишних градусов хватило, чтобы машина вышла из-под контроля, корму увело вбок и вперед; вдавив тормоз, Знаев бессильно наблюдал, как его тащит боком, как надвигается, быстро увеличиваясь в размерах, встречный автомобиль. В голове меж тем вертелась совершенно посторонняя мысль: о том, что он, даже если бы и захотел, не смог бы купить тот придорожный магазинчик с двумя медленными дурами. Потому что деньги кончились. Полмиллиона ушло Лихорылову, еще миллион придется вложить в стройку, или же его придется отдать ментам — остаются несколько сотен тысяч, копейки, на черный день, на жизнь…
Встречный ушел от удара очень ловко, по самому краю полотна. Банкира развернуло на сто восемьдесят градусов — теперь он лицезрел жирные черные следы собственного тормозного пути. Наконец остановился.
Ударила тишина. В ветвях слабо шумел ветер. Мирно пела птица. Потом стало слышно, как встречный сдает назад. Надо выйти, подумал Знаев. Принести извинения. Может быть, денег дать. За то, что напугал. Метр в сторону — сейчас бы оба беседовали с ангелами…
Дверь дернули с той стороны, резко распахнули на всю ширину. Две огромных, пахнущих соляром клешни вцепились в волосы, в рубаху; собраться с силами не успел; вытащили, схватили за ухо, резко толкнули.
— Опять ты? — прорычал красный от ярости человек, смутно банкиру знакомый. — Ты чего, бля, творишь? Я тебе в прошлый раз сказал, чтоб ты угомонился!.. По-человечески, бля, попросил, чтоб ты тут не исполнял свои московские понты!.. А тебе, значит, по хую, да? По-хорошему не понимаешь? Я тебе по-плохому объясню…
Теперь банкир его узнал, обитателя соседней деревни — как его? Вася Толстый? — и вознамерился произнести что-то успокаивающее, оправдательное, но не успел, потому что собеседник стал быстро и умело объяснять по-плохому.
— Хорош, хорош! — заорал Знаев, кое-как уворачиваясь, спасая локтями голову и не успевая спасти ребра.
— Кто хорош? — переспрашивал селянин, азартно продолжая. — Ты хорош? А чем же ты хорош? Тем, что на меня не похож?
В машине банкира всегда хранился пистолет — ожидающий, наверное, именно такого вот случая, неожиданного дорожного конфликта, — но до пальбы дело не дошло главным образом потому, что Знаев чувствовал себя, во-первых, виноватым, а во-вторых, совершенно не способным к сопротивлению. Иногда сопротивляться устаешь. Даже самому рьяному воину однажды вдруг надоедает воевать.
Миха Круглый, кстати, наседать не стал. Сунул несколько раз, выдыхая боевые звуки («на!», «держи, сука!»); кулаки его были настоящие, на сто процентов крестьянские, широкие; напоследок от души пнул ногой поверженного врага, вцепившегося в дверцу; постоял, нависая, радикально сплюнул и вразвалку пошел прочь, как бы слегка кланяясь в сторону воображаемых, одобрительно теперь аплодирующих зрителей: вот так мы и живем, братва, проучим московского придурка, наведем порядок — и дальше двигаемся.