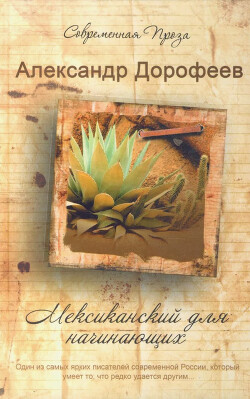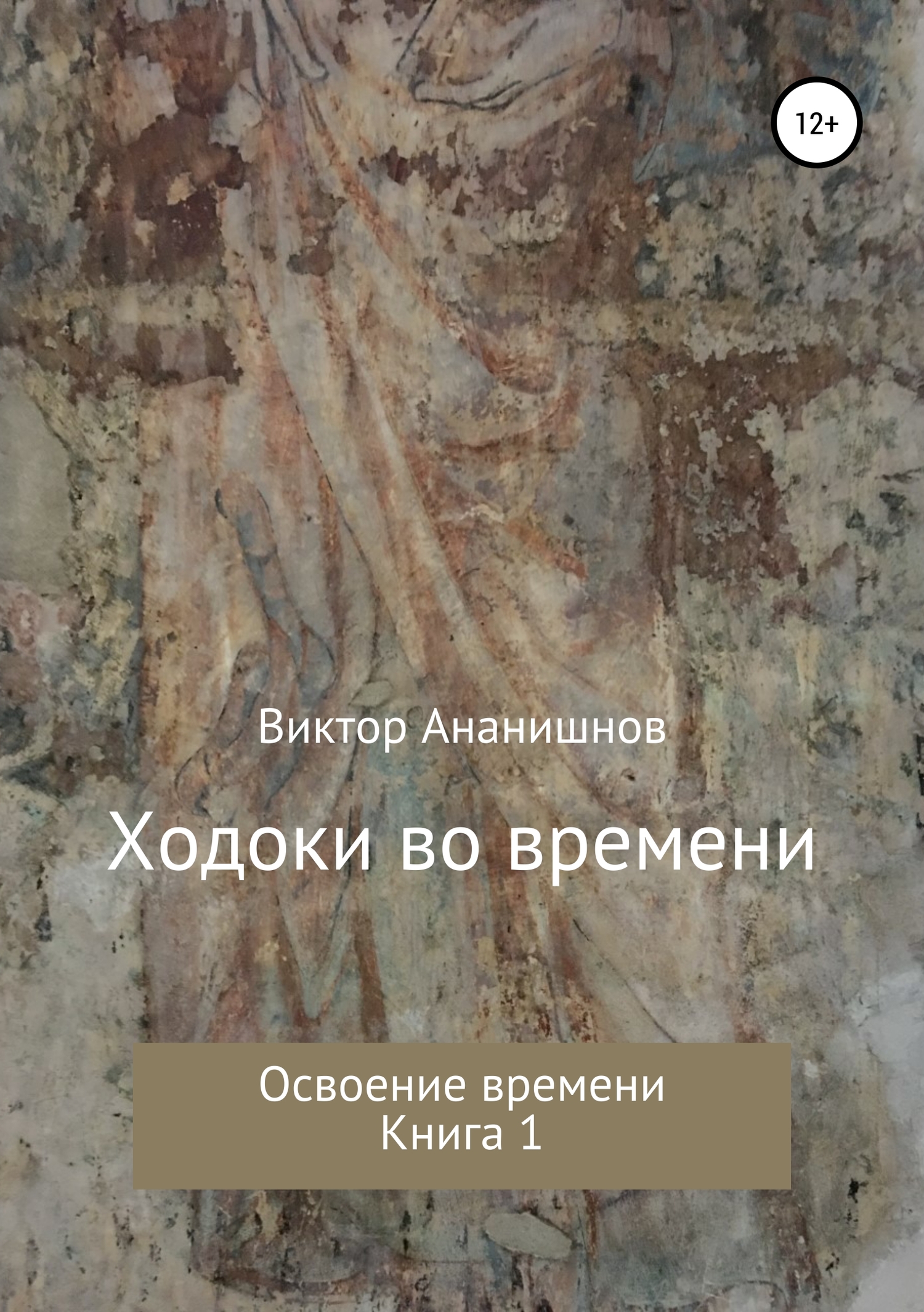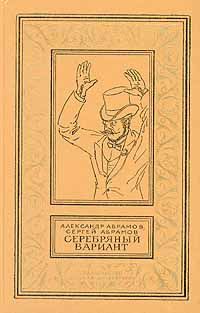Бесспорно, глаз Моктесумы способен на многое, мог бы поделиться мировыми тайнами и секретами бытия, но, сунутый небрежно в столь странное для царственного знака место, не желал общения, лишь грозно разгорался.
Очухавшись на серебряно-фениксовой койке, Васька заметил, что за окном ночь, а в комнате как бы светает – хоть читай. Люстра и ночник очевидно не горели. Источник находился где-то сзади, а именно – в заду, который, простите за грубое слово, флуоресцировал, лучась зеленовато, как циферблат часов. Рядом сидела зачарованная Шурочка, не в силах оторваться от феноменального, похлеще полярного, сияния.
– Что? – спросил Васька, вывернув шею и пытаясь разглядеть. – Новая мазь? Или Пако вкрутил стосвечную лампочку?
– Можешь надеть штаны? – задумчиво произнесла Шурочка.
Васька кое-как поднялся, натянул шорты, но свет не отключился.
Шурочка накинула поверх верблюжье одеяло, потом плюшевое покрывало, потом приложила подушку – сияние прошибало! Даже усиливалось от сопротивления материалов.
Васька растерянно усмехнулся:
– Странная, конечно, штука! Зато до хрена экономии – выпивка, электричество! Попроси у Пако еще мази, буду твоим домашним светлячком.
– Боюсь, не в этом дело, – отвернулась Шурочка.
– В чем же? Почему ты как на похоронах, когда радоваться должна? Какая-нибудь хирургическая ошибка? Уши! – воскликнул он. Поднял руки, но прикоснуться боялся.
– Ушей нет, – еле вымолвила Шурочка.
– Господи! – охнул Васька, боком, как ворона, подпрыгивая к зеркалу. – Да вот же!
В призрачном изумрудном свете уши были хороши! Как новенькие. Без повязок, без йода, без боли. Васька залюбовался:
– Не ожидал. Тонкая работа. Вот новейшая технология! Как, Шуреньчик?
– Удались, – попыталась она улыбнуться. – Славные.
– Да что с тобой, милая? Есть претензии?
– Нет-нет-нет! – Шурочка осторожно обняла его. – Ты все преодолел, дорогой, и я для тебя на все готова.
Но прозвучало это слабо. Было похоже, что они в мертвой зоне, в точке молчания – такие дохловатые, заморенные, сонные выползали слова. То ли обморок и наркоз сказывались…
Васька задремывал. Да, бывает – исполнится желаемое, а счастье, увы, не так огромно. Особенно в тех случаях, когда долго жаждал и алкал – сам путь достижения любопытней цели.
– А Пако? – спросил Васька, укладывая поудобней ослепительный зад. – Будет свидетелем на свадьбе?
– Не знаю, не знаю, где он будет свидетелем, – тихо ответила Шурочка. – Засыпай, милый котик. Утро вечера мудреней.
Полуночные страсти
Все же народные пословицы да поговорки часто попадают пальцем в небо. Может, для кого-то и утро, но для Васьки именно ночь оказалась куда мудреней.
Он спал, исходя изумрудом, как редкая диадема в ювелирном магазине. Шурочка застыла на краешке кровати в думах о грядущем, которое представлялось весьма и весьма темным – глаз полыхает, будто зарница, Пако исчез с ушами, все провалено, и Алексей Степаныч бесспорно примет меры. «Будь что будет, – решила она. – Провались пропадом – надоели сети, хуже редьки!»
В эту полуночную пору, когда активизируются действующие призраки, Илий в удаленной штольне отыскал, наконец, дона Борда. Тот был не в духе, мрачен и тосклив. Без видимого смысла перебирал ржавые оковы, кандалы, шахтерские кирки и черепа.
– Ты, сокровище, меня поражаешь! – порицательно удивился он. – Вижу, нудистом заделался! Небось, за девками ухлестываешь, а о Ваське позабыл. Баста! Одумайся!
Илий рухнул на колени.
– Батюшка, сеньор, всего святого ради, помогите! Застрял, батюшка!
– Экий, право, болван, – проворчал дон Борда.
Отбросил кандалы, сверкнувшие чистым золотом, и сурово взглянул на Илия.
– Только ради Васьки. Запоминай! – Прикрыл глаза, потянулся, как спросонок, быстро присел и растворился. – Обычная физкультура, – раздался голос из мрака. – Но при этом необходимо мыслить о мирозданье, с первого этажа до последнего. Не всякий болван способен. Ну, давай!
Илий отчетливо представил мирозданье в виде пирамиды, увитой конструкциями Ле Корбюзье и Василием Блаженным, потянулся, присел и благополучно очистился от призрачного мусора, став невидимым энергетическим копьем. Впрочем, форма зависела от настроения, и сейчас была решительной.
– Сеньор, не знаю, как благодарить!
– Вали, вали к Ваське, пока не поздно, – отозвался дон Борда.
Святая Приска не шутит! Нос вемос! Аста пронто![46]
Илий молниеносно и копьеобразно, опережая звездные и фонарные световые потоки, ворвался в изумрудный номер. Замерев на миг, обернулся птичкой типа крохотного голубя и юркнул в спящего Ваську, как в давно покинутое гнездо.
– Привет! – подала голос позабытая всеми душа. – Нагулялись? А я за двоих отдувалась. Намучилась – сил моих нету! Отдохнуть бы – хоть в чистилище…
– Кайате, порфавор,[47] – оборвал Илий. – Разговор есть с хозяином!
И он принялся нашептывать Ваське, стараясь не будить, те бесценные сведения, которые человек может получить только во сне от любящего, дружеского духа.
Узнав все, что было, и чему, вероятно, предстояло быть, Василий очнулся, как от выстрела под ухом. Не отворяя глаз, он видел, ощущал, как много навалилось и, можно ли сказать? – гнетло. Наверное, нельзя. Хотя гнетло сильно – изумруд, двурушничество Шурочки, святая Приска с ультиматумом. «Да это просто заговор», – думал Василий.
Если размышлять о жизни, лучше всего, когда в ней чего-нибудь не хватает, зато есть перспективы. Василий имел теперь кучу добра – бабушку, наследство, невесту, третий глаз, а перспективы таяли, как мудро замечено, в перспективе. Он чувствовал, что погорел, превратился в пепел без видимых гарантий возрождения.
– Пиз! – сказал он в отчаянии. – Дец!
– Что, Васенька, что? Куда деться? Я здесь! – встрепенулась Шурочка. – Спи, дорогой, – это кошмары.
– Кошмары? – вскочил он на кровати, всевозможно сверкая и болезненно подпрыгивая в такт словам. – Кошмарное предательство! Напрасны пени! Где уши? Где?
Шурочке показалось, что суженый рехнулся на почве ушей, как Пако на собаке:
– Что ты, милый? Успокойся! Каждое на месте.
– Не отпирайся, – я знаю все, – перешел он на шепот. – Где золотые богини плодородия? Ты их припрятала, скажи?
Шурочка помертвела. Закрыв лицо руками, она тоже шептала нечто похожее на молитву.
– Пора молиться, – кивнул Василий. – За упокой моей души! Завтра же, если не пожертвую глаз с ушами на храм, – кранты! Нож занесен, меня уж поджидают, чтоб проводить во мрак земли сырой…
Он не стал поминать святую Приску – объяснять долго, а суть дела не менялась в отношении крантов. И без того на Шурочку ужасающе подействовал «мрак земли сырой». Тщилась представить и не могла, но поняла в целом – некая могучая секта древних идолопоклонников требует вернуть сокровища Моктесумы, иначе ее Васеньку прирежут, как жертвенного агнца, в подземном святилище, мрачном и сыром. И это казалось неизбежным! Еще с Алексеем Степанычем Городничим – куда ни шло, очень мало, но все же вероятно договориться, свалить чертей на вспятившего Пако. Убеждать, молить идолопоклонников, по мнению Шурочки, не имело смысла. Глупо! Как ни целуй ноги монументу, отклика не дождешься. Зарежут, не дрогнув. А то и сожрут. Доигралась, словом, девка в контрабанду. Знала бы во что выльется…
От безысходности она едва не лишилась чувств, но для одних суток этого было бы многовато. Выскочив из номера, Шурочка побрела, как безумная Офелия, по асьенде. В пути встречались фонтаны с пьющими ангелами, топиться в них не хотелось. Родней обрыв и омут. Она очень вошла в роль. Диковато посмеивалась, размахивала руками, как безутешная куропатка, и стенала:
– Где ты, собака Пака, с ушами? Где ты, собако Пако, с золотыми?
Постояльцы, думая, что это национально-театральный сабантуй, выглядывали из окон, вскрикивали не к месту «оле!», бросали цветы и монеты.
А Шурочка все подбирала, подбирала и набрала целый подол, где попадались среди прочего – конфеты, яблоки, части ананасов, карманный фонарик для ночного бритья, пять тысяч борисониколаевских рублей, деревянное яичко, плоды манго и отдельные косточки.