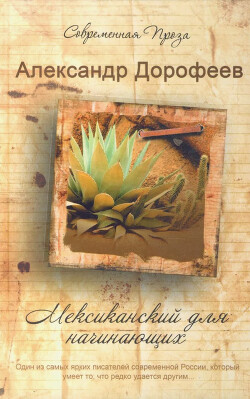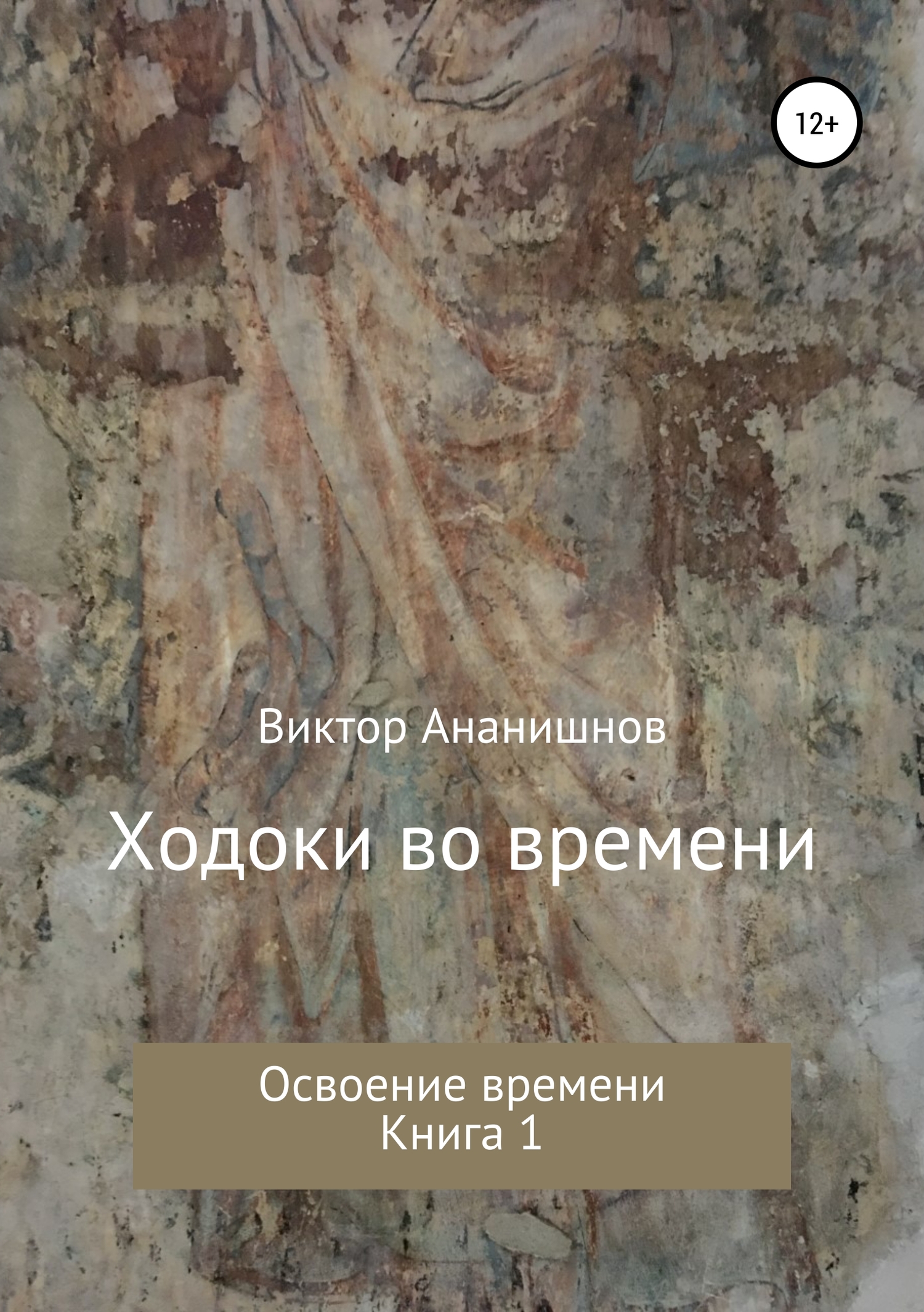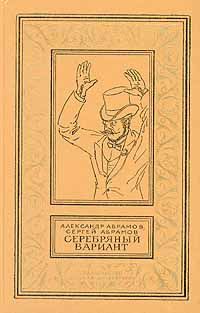«Наколядовала! А для кого? – горько думала она, присев в глубокую и темную нишу. – Подавлюсь-ка я манговой костью, как турок. Вырастет на могиле деревце, и Васенька будет кушать мои плоды, вспоминать и плакать».
Сидя, как надгробное изваяние скорби, Шурочка терзалась. Идти? Бежать? Рыдать? Красться? Ползти? Рвать волосы? Куда? Зачем? Объясниться с Васенькой! Она быстро поднялась и высыпала подол в нишу, сохранив только фонарик для бритья как возможный дар примирения. А если не простит? Тогда манговая кость! – твердо решила она и, посвечивая фонариком, наклонила кудри в кромешную тьму.
И открылись ей фрагменты прелюбопытнейшего пейзажа. Кто-то колядовал куда успешней – тут был складирован отборный товар, в основном серебряный. Чайные ложечки, перстни с бирюзой, серебряный с чеканкой хулахуп, ключ от чего-то огромного. Затесались, правда, и скрепки для бумаг, и дырокол, и кривые пассатижи, и выхлопная труба, забитая тряпкой. И все в птичьем помете, сплошное гуано.
Шурочка повела фонариком и еле разглядела у самой стены обильно засранные с целью сокрытия золотые уши. Как чувствовала, что не ушли далеко! Выцарапав их из ниши, она не сдержала победный вопль, на который, откуда ни возьмись, торопливо приковыляла черно-красная с клювом в виде каменной баранки помесь попугая с вороной. Чистой воды метис.
– Порфавор, кабронес! – просипел, вращая глазом. – Камбио![48]
Шурочка показала аккуратную маленькую фигу, намереваясь ускользнуть по стенке. Тогда метис гаркнул в две глотки: «Асальто![49] Караул!»
Показываться на публике с золотыми ушами было бы опрометчиво.
– Ну не знаю! – остановилась Шурочка. – Следовало бы тебе башку свернуть, но я честная бизнесвумэн. Вот, держи – красивая и полезная вещь!
Метис живо хватанул фонарик, будто только и мечтал побриться при свете, и скрылся в нише, откуда сразу посыпалось все лишнее – косточки манго, рубли и даже бедное деревянное яичко. Наведя порядок, метис зажег электричество и затих – наслаждался, видно, уютно накопленным добром.
А Василию было не до наслаждений. Он метался по номеру, соображая, как избавиться от вшитого.
Способ известен. Опробован горемыками, отвергшими новую жизнь.
Садишься в горячую ванну, шайку или тазик, настолько горячие, насколько возможно, практически кипящие, и кряхтишь, поднатуживаясь местами. Свежие швы непременно разойдутся, и выгребай, ликуя, чего душе угодно, – хоть таблетки, хоть изумруды горстями. Немногим, скажем, сложней превращения призрака в духа.
Однако, рассказы хороши, а реальность тяготеет к худшему. Для начала, ни ванны, ни тазика, ни, подавно, шайки в номере не оказалось. Душем швы не одолеешь. Взор остановился на графине… Да, тьфу, графин-то при чем?
А изумруд собачий, пакомоктесумный, казалось, пек и разгорался. Как атомное топливо в соплах. Номер сиял, будто грановитая палата с алмазным фондом. Хотелось забиться в угол, под стену…
И тогда тазик нашелся. Даже странно, что поиски затянулись. Он не хоронился за шкафом, кроватью, а торчал на виду. Салатного фарфора, с именем «Орион» на лбу и маленькими атлантами по бокам. Совершенно универсальный таз, ренессансной архитектуры.
Василий мелко засуетился, как истерпевшийся ввиду ватерклозета. Забил простыней спуск, до краев наполнил горячей водой и водрузился.
Имелись ли подобные пыточные устройства у инквизиции – трудно сказать. Сомнительно, поскольку не родилось понятие «унитаз».
Как вепрь, изюбрь, дщерь, мытрь и упрь, насильно слитые, ревел Василий. Проклинал Пако, Моктесуму и всех царей, королей, императоров поименно. Клял их глаза, очи, зенки, буркала, изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты и камень на камне.
Он горел, как Феникс на костре, разложенном собственными руками.
Но вечных пыток не бывает, хотелось бы верить, даже в загробном мире.
Разъехалась по швам Пакина работа, и под собственной тяжестью изумруд выпал на дно, быстро угасая от крайности унижения.
Третий глаз, простите, в жопе – куда ни шло. Но глаз в унитазе – простите, дешевый анекдот.
Хорошо вскипяченный Василий выбежал на балкон, подставившись звездным ветрам. Особенно утолял боли и печали Млечный путь, дуя прохладными серебряными губами, навевая благодатный разумный сон.
И едва опустив голову на подушку, Василий начал приятное по нему путешествие, обретшее к утру звонкий любовный мотив.
Интересно думать, что происходит в то самое время, как… Сидишь у окна и представляешь – именно в сию минуту, секунду, миг – кто-то, конечно, тоже сидит и представляет, кто-то рождается, умирает, закусывает, грабит банк, накручивает важную гайку, непременно выпивает. Да мало ли…
В то самое время, когда Шурочка сидела в нише, а Василий на толчке – гончий пес Пако почти достал кролика Точтли, лязгнув зубами над ухом. Но кролик увернулся, надавил, как говорится, на педаль и дистанцировался, исчезнув в подворотне.
Это был городской гон. Пако четверил по следу, который отвратительно петлял, заводя в злачные места – бары, кантины, рестораны, скрытные танцевальные и откровенные стриптизные салоны, в притоны наркоманов и на блядские посиделки. Если бы Пако проследил маршрут с вертолета, он бы вычислил, в какой конечной точке спокойно, без беготни подстеречь кролика. Но засада – дело ризеншнауцеров. Легавый гонит! Невзирая на причусловины и рельеф. И Пако твердо держал след. Изредка поднимал морду, коротко взывая к ночной красноватой Венере.
Неуклонно, неумолимо приближались они с кроликом к алькальдии, где в этот поздний час светилось единственное окно.
Млечный путь в изголовье
Сон прервал будильник, позвякивавший на прикроватном столике. Странной формы будильник, без стрелок и циферблата. Василий пригляделся – это были золотые уши, аккуратно прислоненные друг к другу. А в изголовье на подушке, как серебристый Млечный путь, сидела Шурочка, тоненько позванивая всеми составляющими звездами.
– Дзынь, дзынь, мой хороший! – очень ласково позванивала. – Дзынь, мой птенчик! Пора вставать – петушок давно пропел!
Подзабывший во сне о предательстве, Василий разом потускнел, как это бывает с внезапно прокисшими щами.
– Петух-то жареный! Заклюет…
– Ни слова, – коснулась Шурочка пальцем, будто перышком, его губ. – Я была в сетях! Прости невольную дуру!
Василий, уже говорилось, быстро отходил, и дух Илий склонялся ко всепрощенству. К тому же Шурочка, такая млечно-серебристая, поцеловала в щеку, словно родное дитя.
– Подставить другую?
– Погоди! Сделай одолжение – подойди к зеркалу.
Он повиновался.
– Сними трусы и погляди на попку! – нежно приказала Шурочка.
Василий поглядел и едва не разрыдался – дважды вспоротая и обваренная, она была ухожена, как парадная клумба, а по длинному разрезу вышито изящной вязью – «люблю»!
– Неужто?! – отвернулся он, пряча слезы.
– Ты бы знал, сколько слов хотелось! – с надрывом воскликнула Шурочка. – Да места мало!
Василий обнял ее, ощутив и этот надрыв, и раскаяние, и любовь, струящуюся с ног до головы письменами ушедших столетий.
– Ты не права, дорогая! В моем сердце для тебя – простор, вселенная. Высказывайся!
И Шурочка излила все, что надумала и перечувствовала за прошедшую и многие предыдущие ночи.
– Прости, мой милый, прости, любимый, но я действительно была в сетях и оковах. И только ты смог разорвать их жертвенной любовью!
– Любовью – чистая правда! – подтвердил Василий. – А жертвы?
Шурочка восторженно смотрела в его глаза:
– Ты даже не понимаешь, что принес на алтарь – значит, любовь твоя искренняя, как воркование голубя!
Василий согласился с воркованием, но оставалась какая-то непроясненность.
– А чего принес?
– Самое дорогое, дурачок! – втолковывала Шурочка. – Из того, что имел, – самое дорогое. Выпивку и уши!
«Она еще не знает о наследстве» – подумал Василий.
– Твои уши – очаровательны! Я влюбилась в них с первого взгляда. Помнишь, в коммуналке на кухне ты ковырял пальцем в левом ухе?