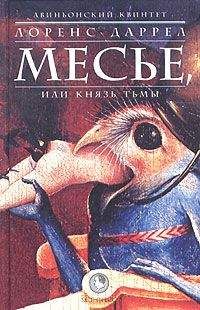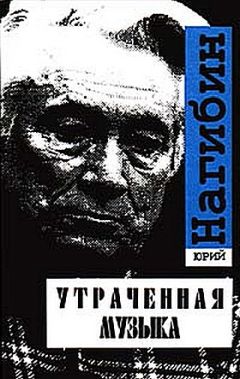Премьера прошла успешно, добрые швейцарцы не жалели ладоней.
- А Наполеон был правда похож на тебя? - поинтересовалась Верушка после спектакля. - Или только на сцене?
- Ей-богу, не знаю. Но он был тоже маленький и тучный. А вот Жозефине до тебя далеко.
- А Жозефина - это я?
- Конечно! - с горячей нежностью откликнулся Кальман. - Ты была моей фиалочкой, сейчас ты императрица. Все ты и ты, только ты.
- Я не хочу отставать от тебя в щедрости, - Вера рассмеялась. - Наполеон был Кальманом на поле боя. - И вдруг, разом став серьезной, она спросила: - Ты часто вспоминаешь Паулу?
- Нет… - покачал головой Кальман, удивленный, почему она заговорила об этом.
- Вот не думала, что ты такой неблагодарный…
- Я просто никогда не забываю о ней, - искренне сказал Кальман.
Верушка нашла его руку и тихонько пожала. Будто прозвучала музыка только что замолкшей «Жозефины», музыка любви…
Да, это было счастье. А затем музыка оборвалась. Не только его, но и всякая музыка. Флейту и скрипку заглушили рев танков, топот кованых солдатских сапог - осуществляя «аншлюс», гитлеровские войска хлынули в Австрию.
На Европу опустилась ночь. Темная, непроглядная ночь. Политики-«миротворцы» - трусы и предатели - тщетно обшаривали непроглядь карманными фонариками. Гитлер, не скупясь на успокоительные заверения, гнал свою тьму на Чехословакию, в Мемельский коридор. Затем настанет черед Польши…
Кальман вылез из машины неподалеку от канцелярии, ведающей Остмарком, так теперь именовалась Австрия, ставшая немецкой провинцией. Четко отпечатала шаг колонна коричневорубашечников. Проехал отряд немецких солдат на мотоциклах, наполнив улицу душной бензиновой вонью. В витринах магазинов, в окнах кафе - флажки со свастикой и фотографии человека с косой челкой и чаплиновскими усиками. На некоторых дверях висели таблички: «Юден Эйнганг ферботен». Какой-то парень смущенно и недоуменно разглядывал желтую повязку с изображением шестиконечной звезды на рукаве своей куртки.
Кальман вошел в кабинет. За дубовым письменным столом, под большим портретом Гитлера, сидел чиновник в мышиного цвета костюме - среднеарифметический человек по первому взгляду, так в нем все невыразительно, корректно, правильно и бесхарактерно, трупопожирательница-гиена при ближайшем ознакомлении. Он не приподнялся, когда Кальман вошел, не ответил на поклон, не предложил сесть пожилому человеку и начал сразу, без предисловий и раскачки, неокрашенным четким голосом:
- Рейхсканцлер поручил мне сообщить лестное для вас известие. В знак признания ваших музыкальных заслуг вам присвоено звание почетного арийца.
Кальман поклонился.
- Что означает ваш поклон? - чуть ужесточил голос чиновник. - Изъявление благодарности или знак того, что вы меня слышите? - Он сделал паузу, но Кальман хранил молчание, и он продолжал: - Господин Франц Легар, чьей жене оказана такая же честь, был красноречивей.
- Господин Легар куда более светский человек, чем я, - своим тусклым голосом сказал Кальман. - Кроме того, политически он несравненно развитее. Я, простите бедного музыканта, кое-как разбирающегося в своей профессии, но темного во всем остальном, вообще не понимаю, что означает это почетное звание. Вернее, я чувствую, что мне оказан лестный знак внимания со стороны рейхсканцлера, хотя и ни о чем подобном не просил, и, видимо, не охватываю всей полноты чести и покровительства, мне оказанных.
Простодушная манера Кальмана ввела в заблуждение чиновника; возросло лишь презрение к недоумку, более злые и опасные чувства еще молчали.
- Известно, что музыканты - люди не от мира сего, но я не думал, что до такой степени. Вы знаете хотя бы, что такое аншлюс?
- Да. Присоединение Австрии к Германии.
- Сразу видно, что немецкий не родной ваш язык. Вы не понимаете оттенков.
- Разумеется, я уроженец Венгрии.
- Аншлюс в данном случае, - начиная раздражаться и еще не отдавая себе отчета в причине своего раздражения, наставительно сказал чиновник, - это контакт, союз, соприкосновение. Австрия подалась к родственной ей Германии, добровольно приняв законы и нормы более великого партнера, в том числе связанные с чистотой крови. Инородцам: евреям, цыганам, славянам, всем низшим расам - не место в жизненном пространстве германцев. Эти недочеловеки подлежат устранению. Но фюрер ценит австрийскую музыку, вот почему счел возможным почтить высоким отличием, дающим права гражданства на немецкой земле, жену Легара и вас.
- Благодарю за исчерпывающее объяснение. Я не беру на себя смелость обсуждать национальную политику рейхсканцлера, скажу лишь о себе. Я родился в Венгрии и всю жизнь ощущал себя венгром. Думал, как венгр, чувствовал, как венгр, и свою музыку создавал, как венгр.
- Но ваш отец?..
- Он тоже считал себя венгром. Но главное: я не австрийский, а венгерский композитор.
- При чем тут австрийский?.. При чем тут венгерский? - с белой яростью зашипел чиновник. - Оперетта - еврейская музыка. Ее пишут одни евреи: от Оффенбаха до Абрахамса.
- А как же говорят о «венской» школе?
- Что такое Вена, да и вся Австрия? - зашелся чиновник. - Сплошная Иудея. Куда ни плюнь - попадешь в обрезанца!..
- Неужели? - тем же тусклым голосом сказал Кальман. - Господин Шикльгрубер, он же рейхсканцлер Гитлер, - австриец. Я видел дом, где он родился…
- Молчать! Вы приговорили себя, Кальман. Либреттиста Легара мы уже отправили в Бухенвальд. Вы составите ему компанию.
- Вы думаете, у нас с ним получится? В последние годы мне не хватало хорошего либреттиста…
- Вы свободны! - гаркнул чиновник.
- Это единственное, что мне хотелось услышать, - пробормотал Кальман и вышел.
Наверное, когда человек так долго был императором, ему невозможно сразу стать рабом - иначе Кальман и сам не мог объяснить своего странного мужества, мгновенно покинувшего его на пустой лестнице гитлеровской канцелярии. Колени его подгибались. Бледный, с залитым потом лицом он спустился вниз, цепляясь за перила, и почти упал на подушки своего «кадиллака»…
…Адмирал Хорти, диктатор Венгрии, скучал в своем огромном пустынном кабинете. Этот странный адмирал без морей и флота был уже старым человеком, не поспевавшим за временем, о чем в глубине души он и сам знал, как знал и о своем неминуемом отстранении Гитлером. Порой адмирал задумывался: примет ли опала форму физического уничтожения или малопочетной отставки, но с годами мощный инстинкт самосохранения в нем пригас. Он прожил большую жизнь, но так и не выполнил своего главного назначения: не восстановил обобранной Версальским миром Венгрии, и твердо знал, что Гитлер ему в этом не поможет. Адмиралу, в сущности, все стало безразлично, он подчинялся лишь инерции власти.
Вошел начальник его канцелярии, старик с пергаментной кожей и голым пятнистым черепом, - единственный приближенный, которому Хорти полностью доверял.
- Кальман, - сказал тот.
- Что Кальман?
- В Будапеште. Гитлер присвоил ему почетного арийца и право жить в Австрии. А Кальман сказал, что считает себя венгром, и уехал.
- Ну и ну! - вскинул брови Хорти. - Откуда такая прыть?
- Нам его прыть ни к чему. Он здесь не нужен.
- Отошлем назад.
- За него просят все Эстергази.
- Пусть и дают ему убежище.
- Адмирал или в очень хорошем, или в очень дурном настроении, - ворчливо сказал начальник канцелярии. - Тут не до шуток.
- Да. Такого оскорбления Гитлер не простит. Что вы предлагаете?
- Дать ему и всей семье венгерские паспорта и венгерский флажок на радиатор. Пусть катят во Францию, а оттуда в Америку. Через «большую лужу» гестапо его не достанет.
- Вот не знал, что вы такой поклонник оперетты!
- Я ее терпеть не могу. Признаю только органную музыку добаховского периода. Но это мое личное дело. А Кальман принадлежит миру.
- Да… - задумчиво сказал Хорти. - Он принадлежит миру, этот маленький, пожилой, слабый человек. А мир - не фикция?.. А будущее - не фикция?.. Кто знает?.. Во всяком случае, раз в жизни можно позволить себе добрый поступок…
Довольно невзрачный, старый, но знавший лучшие дни океанский лайнер «Котте ди Савойя» приближался к концу своего долгого путешествия, к земле обетованной многочисленных беженцев из Европы.
…Кальман стоял на палубе и неотрывно глядел на пенящиеся валы; казалось, волны убегают к милой и проклятой Европе, которую его семья покинула в лихорадочной спешке - война могла разразиться со дня на день.
Полгода, проведенные в Париже, стоили Кальману многих лет жизни. Зловещая тьма расплывалась над Европой, гася одну звезду за другой, а Париж, то ли бросая вызов року, то ли в бездумье обреченности, жег свою ночь лохматыми кострами бесшабашного, больного веселья. И Верушка очертя голову кинулась в этот огонь - Жанна д'Арк безрассудства и наслаждений. Никогда еще так самозабвенно не отплясывал Париж - ритм румбы захватил даже министра иностранных дел Бонне, которому естественней было бы в роковые дни напрягать голову, а не ноги, - никогда еще Париж так самозабвенно не влюблялся. И тщетно утешал себя Кальман, что с самого начала провидел свою участь, что тридцать лет возрастной разницы неминуемо скажутся рано или поздно и что ревность - законное человеческое чувство, которое так же необходимо испытать каждому, как любовь, страсть, упоение, печаль и отчаяние, - все это мало помогало. Боль давила его так поздно проснувшееся сердце, он был глубоко несчастен и утратил душевную высоту в своем страдании. Отвратительные, унижающие в первую голову его самого сцены ревности, бессмысленные, ничего не разрешающие объяснения, потоки самозащитной лжи лишь способствовали разъединению. Он не хотел за океан, но стал почти счастлив, когда широкая полоса воды отделила борт старой посудины «Котте ди Савойя» от набережной Гавра.