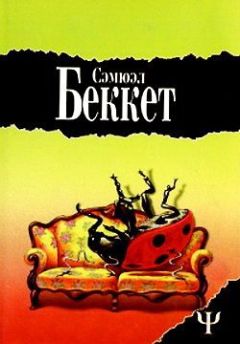Я пообещал, что следующее лето мы проведем во Франции. А этим поедем на две недели в Масунте, снимем там домик — это я тоже пообещал. Но оказалось, что Ауре не хочется ехать летом в Мексику. Она настаивала, что мечтает провести хотя бы одно лето в Нью-Йорке. Я отвечал, что летом в Нью-Йорке отвратительно, жарко, шумно, дымно, но она сказала, что хочет убедиться в этом сама и я не вправе лишать ее этого удовольствия, просто потому что сам живу тут черт знает сколько лет. Ее друзьям нравится нью-йоркское лето! Иногда ее заклинивало на идее переехать в другую квартиру, с садом, где она могла бы завести собаку. Она часами изучала перечень сдаваемых квартир, в поисках той, где разрешается держать домашнее животное. Но в действительности сильнее всего ей хотелось наконец-то посвятить все свои силы себе, своему творчеству. Даже если этим летом Аура не сможет преодолеть потребность поехать к матери — а я уверен, что не сможет; хотя кто знает? — я мог бы настоять, чтобы мы поехали туда всего на месяц. Нам вообще не нужно было ехать! Я должен был помочь ей хоть раз поступить беспощадно и эгоистично, возможно, именно об этом она так мечтала. Я мог бы найти квартиру с садом, в районе подешевле. В апреле жильцы под нами съехали, и мы могли переселиться. У нас было пять дней, чтобы принять решение. На заднем дворе росли розы, две яблони и смоковница, кусты, клумбы с цветами и зеленью, виноград увивал ограду, большая часть этих растений требовала постоянного ухода, мы не смогли бы уехать на лето и позволить саду зарасти травой или иссохнуть под палящим солнцем. К тому же эта квартира была на тысячу долларов дороже нашей. И завести животных было нельзя. Нет, Оуррра. Мне хотелось в Мексику. Присяжные всего мира, если вы и должны признать меня в чем-то виновным, то в этих дурацких расчетах. Тем летом мы должны были остаться в Нью-Йорке и ухаживать за собственным садом. Вам нравится этот сад?
Годами Аура боялась, что Родриго бросит мать. Основной проблемой их супружеской жизни Родриго считал усугублявшееся пьянство Хуаниты, однако были и другие. С еще большей, чем ранее, настойчивостью Аура умоляла и убеждала мать обратиться за помощью. Ежедневно разговаривая по телефону и в интернете, они ожесточенно ругались по этому поводу. Однажды вечером в конце рождественских каникул Хуанита и Родриго присоединились к нам в кафе в Кондесе. Мы сидели за большим круглым столом и выпивали с друзьями. Когда все стали расходиться, Хуанита перегнулась через стол — ее глаза пристально оценивали количество оставшегося алкоголя, — сгребла все бокалы и допила один за другим. Хайме, испанец с густым голосом, отпустил очередную добродушную шутку, что-то вроде: «Ох, проклятье, она меня опередила». Аура старалась перенести это стоически, но ее стыд и злость впивались в меня, словно кинжалы. Ее щеки стали почти серыми, лицо приобрело жесткое выражение, губы сжались в тонкую линию, их уголки опустились, в глазах не было и следа хмельного веселья, только грусть, я словно увидел ее постаревшей, как если бы жизнь принесла ей лишь горькое разочарование. Она бросила взгляд на стоявшего с виноватым и беспомощным видом отчима и подошла к матери. Больше года назад Родриго оставил на заднем сиденье машины Хуаниты руководство по тому, как вести себя в процессе развода, и теперь оно всегда было там, подобно спящему скунсу, которого никто не рискует тронуть. Аура была убеждена, что мать пила из страха быть брошенной и из-за другой глубокой, незаживающей раны — длительной ссоры со своей матерью. К тому же Аура жила в Нью-Йорке, превращаясь в самостоятельную женщину, замужнюю, с собственными амбициями, уделяя матери все меньше и меньше времени. Покинутая, одинокая, всего боящаяся, отрезанная от мира со всех сторон — так Хуанита проживала свою жизнь. Несмотря на все намеки и угрозы, Аура не верила, что Родриго решится уйти, и причиной тому были деньги: он не зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить себе приличную жизнь. Родриго проводил в разъездах почти всю неделю, а с недавних пор и выходные. Он все еще был атлетически сложен, моложав; было трудно предположить, что у него нет любовницы. Даже просто стоя рядом, он излучал жестокость, но, несмотря ни на что, чувствовалось, что он привязан к Хуаните, что она для него больше, чем банальный источник комфорта. В ней было так много силы, тока, и он, простой и довольно вялый человек, не мог прожить без ее энергии. Она держала его на крючке.
Но также было ясно, что, став дедушкой, Родриго стремился проводить как можно больше времени с внуками, мальчиками двух и четырех лет и новорожденной девочкой. Раньше по праздникам Родриго оставался с Хуанитой и Аурой, улучая момент, чтобы позвонить или встретиться с давно изгнанной из семьи дочерью, Катей, но с рождением внуков его приоритеты изменились. Аура боялась, что стремительно крепнущая привязанность Родриго к семье Кати наряду с категорическим отказом Хуаниты признать сам факт ее существования станет главным аргументом для отчима в окончательном решении покинуть ее мать. А что, если они все вместе станут проводить праздники — Рождество, День отца, — сможет ли это удержать Родриго в семье? Это была моя идея, и, обсудив ее с Аурой, я поговорил с Родриго. Так начались наши тайные встречи с ним и Катей. В этой высокой дипломатии мне отводилась роль особого посланника. Аура не виделась со сводной сестрой двенадцать лет. Наше общение по настоянию Ауры держалось в строжайшем секрете от ее матери. Мы встречались с Родриго и Катей дважды, сначала летом и еще раз зимой, в двух разных ресторанах. Оба раза Катя приезжала с мужем — менеджером среднего звена на транснациональном предприятии по производству бытовой техники, расположенном где-то на окраине. Они одевались как молодая пара из пригорода, на первой встрече Катя была в сером платье-сарафане поверх белой блузки, в неброских золотых серьгах и цепочке; ее муж — в алом свитере и темных брюках. Катя все еще выглядела как бойкая первая красавица школы. Ее длинные каштановые волосы блестели и были аккуратно причесаны. У нее была открытая улыбка, по крайней мере мне она казалась дружелюбной, но в глубине веселых глаз затаилась опаска. Это было что-то мрачное, что-то из ее детства или бесшабашной юности, нечто такое, что она, вероятнее всего, никогда не обсуждала ни с кем, кроме доктора Норы Банини. Я думаю, что поэтому она мне и понравилась; она меня заинтересовала, я почувствовал с ней родство. Я тоже скрывал многое из своего прошлого. Мы оба сделали немало, чтобы сохранить свою целостность и стать теми, кем мы стали. Я сказал Ауре, что не могу понять родителя, пусть и приемного, навсегда изгоняющего даже уже взрослого, девятнадцатилетнего ребенка из семьи и отказывающегося от любых попыток примирения. Конечно, и сама Катя никогда не стремилась простить или быть прощенной. Только потом я узнал, сколь жестока она была в детстве с Аурой — об этом мне рассказала Фабис, об этом я прочел в дневниках жены.
Катя изо всех сил сдерживала радость, и я не мог не заметить, что она получила от нашей встречи большое удовольствие. Мы попросили ее помочь нам спасти брак Хуаниты. Катя дала понять, что в принципе не против. Она посмотрела на Ауру через стол и сказала, что скучала по младшей сестричке. Аура улыбнулась в ответ и, вжавшись в стул, ответила, что тоже скучала. Катя сказала, что при определенных обстоятельствах она допускает, что вся семья соберется на Рождество, но… но… Дабы простимулировать Катю, я произнес страстную речь о важности семьи, представив себя «главным хранителем семейных уз». Родриго и Аура в изумлении уставились на меня, и с робкой улыбкой Аура спросила: ты кто? Я почувствовал, что краснею. Они отлично знали, что никакой я не хранитель, на нашей свадьбе не было ни одного моего родственника и это ничуть меня не огорчило. Слушайте, мог бы я возразить, я тут пытаюсь вести дипломатические переговоры, а не выступать в роли Моисея или Иисуса. Я имею в виду, сказал я Ауре, что, как только речь зашла о тебе, твоей семье и семье, которую мы с тобой создаем, я стал и навсегда останусь хранителем семейственности. Катя засияла: Аура! Ты беременна? Не-е-ет, ответила Аура, пока нет. Но когда-нибудь обязательно будет, встрял я, и Аура кивнула, а Родриго посмотрел на нас с отеческой любовью и одобрением и сказал: Бог даст.
Против нашего предложения выступил только муж Кати. Он выглядел подтянутым, крепким, слегка мрачноватым, но, когда заговорил, его слова прозвучали очень резко. Зачем им это нужно, спросил он. Он знал, что Хуанита сложный человек. Ради чего подвергать жену, детей, их спокойную семейную жизнь риску столкнуться со сложной ситуацией и этой сложной женщиной, да еще в канун Рождества? Да и вообще, не слишком ли поздно все спохватились? С чего Кате понадобилось спасать брак отца? Разве не логичнее ей хотеть, чтобы этот брак распался? Аура выглядела так, словно ее вот-вот стошнит, как будто она только что впихнула в себя целый сандвич с пастрами. Одно ее присутствие здесь уже было предательством по отношению к матери. Аура могла бы позволить себе немного позлорадствовать: это она жила в Нью-Йорке, писала диссертацию, это она была на пути к своей мечте — стать писательницей. Но сомневаюсь, что Катя считала себя обиженной: они жили в собственном домике в пригороде, как большинство семейных пар среднего класса. У нее были прекрасные дети, молодой преданный муж, работа аналитиком на полставки в фирме, которая занималась исследованиями рынка. На следующей нашей встрече муж Кати сказал, что Хуанита должна первой попросить прощения и сделать шаг к воссоединению. Вероятно, он считал, что описывает приемлемый вариант примирения. Если бы он сам додумался предложить такое, возможно, так бы оно и было.