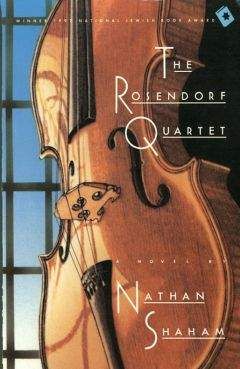«Вы не найдете в мире ничего более европейского, чем евреи», — произнес Губерман, верящий в историческую миссию евреев в Европе. Неужто он привез сюда еврейских музыкантов, чтобы они переждали грозу? Или он понял, что лишь музыке удастся сохранить связь с Европой? «Было бы трагично, — подсказал Губерман сионистам, — если бы еврейский народ стремился теперь порвать связи с той Европой, в развитие культуры которой он внес столь великий вклад».
12.4.37
Долго не раскрывал я дневника и вернулся к нему, чтобы констатировать: ничто не изменилось. Только весна наступила, да и она всего лишь обогнавшее время лето. Из окна, выходящего в сторону Иерусалима, бьет горячий воздух, иссушающий волю. И как назло я засел писать именно сегодня, когда голова тяжела, а руки влажны от пота. С тяжелым сердцем оплакиваю безвременно усопшую зиму.
У меня появился уже один местный друг — море. Вдоль берега моря хорошо бродить в сумерки, приводя в порядок мысли. Зеркало, в котором отражается твое настроение.
Пляжи вдруг заполнились толпами людей, обнажающих под палящими лучами солнца свои белесые тела. Дачной беспечностью веет от молодых тел, прилежно холящих здоровье, не обращая внимания на яффскую мечеть, высящуюся на южной оконечности пляжа, как наблюдательная вышка в концлагере.
Подростки мгновенно проскакивают между ногами верблюдов, что несут на горбах песок и гравий. Прыжки этих ребят великолепны — словно тренировка перед геройской смертью. Мне вспомнились каталонские юноши, состязающиеся со стадом быков, — теперь они спасаются от самолетов, которые охотятся за ними на бреющем полете.
В час затишья море светло-синее, словно перевернутое небо, а в шторм зеленое, серое, лиловое, и ярость, вздымающаяся из глубин, захлестывает пеной берега.
И тогда на западе стоит мгла, точно стена, заслоняющая Европу. Мгла стелется над горизонтом, словно горы дальней стороны. В такие минуты меня охватывает тоска по Германии. Строки немецких стихов так и сверлят затылок, а в сердце одна глубокая боль.
Возвращаюсь к себе в комнату переполненный вдохновением и не могу ничего написать. Чувствую себя безбилетником, которого обнаружили на пароходе в открытом море и высадили на остров.
Дрожащей рукой вписываю в дневник несколько строк на том единственном языке, что поет в моей душе. Но я могу писать лишь о себе. Никогда не сумею я писать об этой стране, предоставившей мне убежище. Ведь я никогда не пущу в ней корней.
Ясное это сознание окутывает меня, точно плацента, возвращая в утробу, откуда я был извергнут прежде, чем настал мой срок.
Никогда не создам я дома там, где не смогу публиковать книг. Я сижу на берегу моря в Тель-Авиве и пишу письмо завтрашней Германии. Прислушайся, Германия, прислушайся! Где-то на далеком побережье Средиземного моря плачет о тебе человек с опаленными пальцами, утащивший тайком тлеющий уголек с разбитого алтаря, — покуда не отстроится сызнова величественный дворец вечной Германии.
Не стану преувеличивать своего значения. Ведь сегодня немецкие писатели и посильней меня живут в Швейцарии, в Париже, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в других частях мира. Быть может, они лучше меня хранят этот тлеющий уголек, но не знаю, кто из них платит столь же полной мерой за любовь к горней Германии, не существующей более нигде, кроме как в наших книгах.
Вчера вечером пошел в кино на немецкий фильм. Разгневанная публика испустила вопль, едва раздались в зале немецкие слова — бальзам для моей души. На прошлой неделе подожгли газетный киоск за то, что там продавали немецкий журнал. Я тоже опубликовал в нем статью о нуждающихся немецких писателях, живущих на чужбине.
Ощущение временности дает себя знать во всем. Даже в интимных делах. Не надо испытывать ко мне враждебности, чтобы сказать, что я не имею права безгранично пользоваться долготерпением женщины, с которой делю хлеб и постель. Я и сам так думаю — но не смогу кривить душой.
X. — женщина умная и бесконечно терпеливая. Я не верю ей, когда она соглашается со мной, что теперь не время строить дом и заводить детей. Она делает вид, что ей удобно откладывать все это до той поры, пока прояснятся европейские дела. Но сколько времени сможет она ждать? Ей тридцать два года, а будущее туманно. И несчастная эта женщина, воспитанная среди берлинской богемы самых счастливых и самых безумных лет, не может позволить себе отклониться от бонтона «романише-кафе». Но ведь невероятно, чтобы человек, исполняющий некие секретные поручения в рядах национального движения, хранил верность разнузданной свободе духа, свойственной тем, кто отравлен наркотиками искусства. Проповедуя, будто институт брака более не состоятелен, X. изменяет своим естественным чувствам. Она превозносит идеи, которые я едва удерживаю дрожащей рукой. Трогательна ее потребность защитить меня от людей, твердящих, что я паразит, раз позволяю ей себя кормить, а замуж не беру.
Приверженность X. анархистским идеям не вводит меня в заблуждение. Истинные ее чувства просачиваются наружу в форме внезапно налетающих настроений. Безо всякого предупреждения, словно землетрясение в отдаленном месте, прорывается скорбь о мире, гибнущем на наших глазах. Грустный этот обман рвет мне сердце. Кто лучше меня знает, что ее космическую тоску можно с легкостью утолить. Но не из жестокости не прихожу я ей на помощь.
Я действительно не могу создавать семью, растить детей. Может, во мне таится какой-то глубокий внутренний изъян, а может, это преходящая болезнь. Во всяком случае, здесь и теперь я не могу вообразить себя преданным отцом. Едва я представлю себе картину: ребенок в моих руках, как она тотчас расплывается.
Какая жизнь будет здесь у моих детей? Сколько лет успеют они прожить, прежде чем их убьют? Я не настолько эгоистичен, чтобы растить детей ради того, дабы сделать богаче собственную жизнь. Если я не в силах обеспечить детям будущее, лучше им вовсе не родиться.
Тревожит меня и другое: смогу ли я дать детям европейскую среду в закрытой квартире, где бережно поддерживается рафинированная немецкая культура? Боюсь, что нет. Они будут расти на этих залитых солнцем улицах, где в любой час дня играют не знающие никакой узды ребятишки. Я не смогу уберечь их нежные души от пошлости, заносчивости и жажды крови, отличающих здешнее молодое поколение. И на каком языке будут они говорить? Неужели они выучат немецкий — язык, приговоренный здесь к преждевременной смерти? А не то — будут всю жизнь пользоваться искусственным языком, к которому каждый день прибавляют несколько новых слов, без наследственных болезней культуры, строящейся постепенно, ряд за рядом.
Смогут ли они когда-нибудь заглянуть в сочинения отца, так любившего посмеяться над своими страданиями, смогут ли открыть благодаря его книгам, откуда они пришли, прежде чем решить, куда они идут?
У меня нет иллюзий. Никогда не сумею я вложить ни одного камня в строительство дворца еврейской культуры Эрец-Исраэль. Мой скептицизм — не то, чего здесь с нетерпением ожидали. Провозвестники Избавления из Восточной Европы забросают камнями человека, полагающего, что еврейскому гению грозит великая опасность из-за палестинской авантюры. Все, что заострилось в еврейском архетипе в ходе борьбы за выживание, в усилиях завоевать почетное место в европейской культуре, может утратиться в стране, где молодежь воспитывают на идеях, в коих нельзя усомниться, без ценностей универсальной веры, вне традиции европейского гуманизма. Сладковато-тошнотворный привкус левантизма грозит прилипнуть к еврейскому населению Палестины, отрывающемуся от Европы.
Как увечный, сажусь я за рабочий стол, который мне не принадлежит, или за столик в кафе, чтобы черкануть считанные строчки. Нет во мне душевного покоя, потребного для писания эссе, а тем паче романа, требующего концентрации всех душевных сил. Я не способен закрыть окно в мир и затвориться в четырех стенах своего произведения. Все окна распахнуты настежь, и ветер времени подхватывает бумажки с моего стола. Кажется, мне придется отказаться от своих планов до тех пор, пока не буду знать, где живу и зачем. Все, что могу я покуда писать, — это зарисовки разбитой души, наброски романа, который, быть может, никогда не будет написан. С отчаяния я было задумал написать рассказ на библейскую тему: об интригах при дворе царя Соломона, — но и для этого не нашел в душе ни должного терпения, ни даже юмора. А ведь юмор — входной билет придворного шута в царский дворец.
Дневник для меня как ящик, куда я время от времени бросаю клок идеи или обрывок мысли, осколки цветного стекла — случайные блестки языка, концы несвязанных нитей, запутанные наметки неудавшихся аналогий, непонятно что доказывающие притчи, философские отбросы, ржавые гвозди сиротской морали и засохшие ветви древа познания — как спасшийся с затонувшего корабля: волны вынесли его к одинокому острову, и он собирает все, что попадается под руку, чтобы соорудить плот.