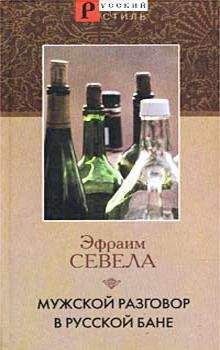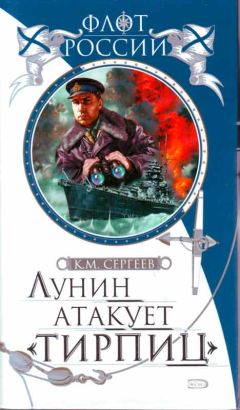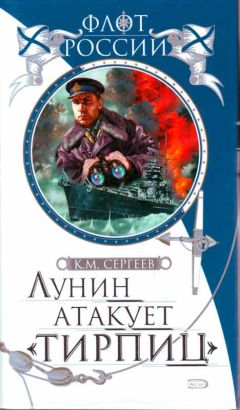Когда вернулся через месяц, первое, что узнал, — Таня пыталась покончить с собой, чего-то наглоталась, но ее спасла дочь, вызвав «скорую помощь». Сейчас она уже дома, вернулась из больницы, но на работу не ходит, слишком слаба.
Как вы догадываетесь, хоть я и расстроился, ведь я был человеком не совсем бесчувственным, мне мучительно захотелось снова отправиться в отпуск, за свой счет, к черту на рога, лишь бы подальше отсюда. И я действительно стал хлопотать об отпуске, а пока старался за версту обходить улицу, на которой жила Таня. Но укрыться мне не удалось.
Однажды на центральной улице, у светофора я столкнулся с длинной вереницей детей, попарно пересекавших проспект с учительницами в голове и хвосте. Такое зрелище всегда умиляет, и, как и другие пешеходы, я залюбовался детишками, одетыми вполне прилично и со вкусом, что, несомненно, свидетельствовало о том, что страна понемногу выползает из послевоенной нужды и бедности.
Вдруг я услышал свое имя. Меня окликнул звонкий детский голосок, и не успел я опомниться, как увидел Галочку, бежавшую ко мне из парной колонны школьников, с растрепавшимися на ветру кудрями и совсем задохнувшуюся от радости. Она чуть не упала на меня, обхватила руками мои ноги, прижалась всем телом, и я бедром чувствовал биение ее сердечка. Головку она запрокинула и смотрела мне в лицо сияющими и просящими глазами.
— Пойдемте, пойдемте к нам… Мама будет так рада… Ей очень плохо… А вас увидит, сразу поправится, задыхалась она. — Ну, миленький, ну, хороший… пойдемте… на час… хоть на пять минуточек… Вы же добрый… самый лучший… Не надо ночевать… только зайдите…
Я сам чуть не заплакал. Поднял Галочку на руки, поцеловал ее и горячо зашептал:
— Хорошо, маленькая… я приду… обязательно приду… попозже… а ты беги… тебя ждут.
— Я знала, я знала, — ликовала Галочка, лаская ладошками мои щеки, — что вы вернетесь… у нас в шкафу ваши тапочки остались.
Она чмокнула меня в обе щеки, я бережно опустил ее на тротуар, и она посмотрела снизу в мои глаза с неожиданной строгостью:
— Не обманете?
И тут же спохватившись, рассмеялась счастливым смехом:
— Я пошутила… До вечера… Я маме не скажу… пусть ей будет сюрприз.
Она побежала догонять завернувшую за угол многоцветную гусеницу, все время оборачиваясь и махая мне ручкой.
К ним я не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. В тот же день я обратился к начальству с заявлением об увольнении, немало удивив своих коллег. Я настаивал с таким упорством, что мою просьбу хоть и нехотя, но удовлетворили, и назавтра скорый поезд мчал меня подальше от этого города. Навсегда.
Больше я Таню не видел и, как сложилась ее жизнь, не знаю. Галочка давно уже выросла и, возможно, замужем.
Моя карьера сложилась по-иному. Я ушел из журналистики и двинул по партийной линии. Как видите — не без успеха.
Много лет спустя, а если поточнее, совсем недавно, я снова столкнулся с Таней и Галочкой. Не прямо, а косвенно. Жизнь свела меня с незнакомым мне до той поры четвертым участником этой истории. Я встретил Вальтера. И сразу узнал, кто это, когда он, представившись, назвался.
Это было в Чехословакии, на курорте Карловы Вары, куда и я, и он, два уставших от трудов праведных труженика на партийной ниве, приехали лечить зашалившую печень. Он был не министром, а очень высокой шишкой в партийном аппарате в Берлине. У него сохранился серый цвет глаз и ресницы были по-прежнему длинными, как у девицы.
Он представил мне свою жену — рослую упитанную немку и трех детей, тоже упитанных и аккуратно одетых. Младшая девочка, как сестра, смахивала на Галочку светлыми кудрями и серыми большими глазами.
Человек словоохотливый, он сам рассказал мне о своих приключениях во время войны, о чудесном спасении в партизанском плену, ни словом не обмолвившись о Тане. Говорил, что относится к русскому народу, как к братьям, и каждый раз, когда по долгу службы приезжает в Россию, у него бывает ощущение, что он на своей подлинной родине.
Я спросил, не бывал ли он случайно в городе — и назвал город, где я работал в газете и где жила Таня, — и он ответил, задумавшись на миг, что нет, не бывал, и спросил, почему я упомянул этот город.
— Да так, — промямлил я. — Там живет один… партизан бывший… он мне вашу историю рассказывал.
— Кто? — насторожился Вальтер, заморгав длинными девичьими ресницами. — Мужчина? Женщина?
— Мужчина, — сделав долгую паузу, сказал я, не отводя взгляда от его серых глаз.
— Фамилии не помните? — облегченно рассмеявшись, спросил Вальтер.
— Не помню.
Там было много прекрасных, сердечных людей, — сказал Вальтер, — таких ни в какой другой стране не найти.
Мне мучительно хотелось смазать ему наотмашь по румяной, холеной роже и сказать, что он негодяй и подонок и большую ошибку допустил командир партизанского отряда, не расстреляв его, как он делал с другими пленными, среди которых, возможно, были и честные люди.
Но, подумав, промолчал. Потому что сам-то я не намного лучше поступил с Таней. Были мы с ним одного поля ягоды. Благо, состояли в одной коммунистической партии.
Вечером мы с ним пили… не карлсбадскую соль, а русскую водку в ресторане, поднимали тосты за нерушимую дружбу немецкого и советского народов и упились до чертиков.
Два чешских официанта вывели нас под белы рученьки на улицу, позвали такси, и один сказал в сердцах по-чешски, а я разобрал до единого слова:
— Вот свиньи… что немец, что русский… чтоб их обоих черти взяли.
Лунин по ошибке плеснул на раскаленные камни не пиво, а коньяк. Полковша армянского коньяка. Клубы пара извергли острый спиртной дух. Баня быстро пропиталась им, и Астахов с Зуевым, хлеставшие друг друга вениками на самом верху, задохнулись и скатились кубарем вниз. Вслед за ними выскочил в гостиную Лунин. Багровые, распаренные, стояли они посреди ковра, тяжко дыша, как загнанные лошади, и, когда немного отошли, Зуев укоризненно сказал Лунину:
— Готов, парень! Тебе больше пить нельзя.
— А сколько мы выпили? — спросил Астахов, все еще не в состоянии дышать ровно.
Лунин открыл холодильник.
— Так. Коньяк весь. И пиво все. Бутылку шампанского. И три бутылки вина.
То-то я гляжу, цепляюсь языком за зубы, — удивился Астахов. — Это со мной бывает, когда я крепко переберу.
— Ты и перебрал, — подтвердил Зуев. — И он. И я. Все мы, братцы, незаметно перепились. Аж подташнивает. Вздуют нас жены. И будут правы. Пошли, понимаешь, в баньку попариться, а вернулись на четвереньках. Истинно русские люди. Как тут не вспомнить наш российский анекдот.
Пошли два чудака, вроде нас, в магазин за поллитровочкой, по пути наткнулись на мужика, в дымину пьяного. Лежит в луже, как боров, и пузыри пускает.
— Вот, видишь, — говорит один другому, показывая на пьяного в луже. — Люди уже гуляют, а мы только собираемся.
— Да, действительно, голова кружится, — тяжело рухнул в кресло Астахов. — А за окном уже темно. Жена небось беспокоится. Как бы облегчить голову, а?
— И тебе худо? — спросил Зуев Лунина.
— Муторно, — скривился Лунин.
— Есть средство, — сказал Зуев, отдуваясь и при саживаясь рядом с Луниным на диван. — Народное средство. Мне дед мой, конокрад, демонстрировал. В Сибири это очень распространено. Будешь трезв как стеклышко.
— Какое средство? — слабым голосом спросил Астахов, прикрыв веками глаза.
— Из тепла в холод и наоборот, — оживился Зуев. — Значит, пьян мужик в стельку. Берет веник — и в баню. Распарится, как мы с вами, двери настежь — и прыг в снег. С головой! А оттуда — назад, в парилку. Как рукой снимает. Трезв и прозрачен как стеклышко.
— Так чего же мы ждем? — пробормотал совсем раскисший Лунин. — Аида, ребята, в снег! Я хочу быть как стеклышко.
— А не струсите? — поддел их Зуев. — Да вы раскисли как бабы.
— Кто? Мы? — попытался подняться с кресла Астахов, но, покачнувшись, рухнул назад. — У-у-у, совсем сдал. Безобразие! Пошли в снег! Протрезвимся.
Зуев протянул ему руку, помог встать. К ним присоединился Лунин, и они обнялись, поддерживая один другого.
— Слабы, братцы, — качал головой Лунин. — Сдаем. Из позолоченной рамы на них глядели со своих могучих коней три русских богатыря в кольчугах и шлемах и тоже удивлялись, до чего слабы в коленках их потомки.
— А вы не щурьтесь, — погрозил пальцем богатырям Астахов. — Мы еще докажем, что не перевелись богатыри на Руси. Виктор! Двери настежь! Все вместе! Бегом! В сугроб! Марш!
Из распахнутых дверей хлынули понизу клубы морозного пара, окутав их молочной пеленой до пояса, а над туманом багровели распаренные плечи и лица. Астахов первым, за ним Лунин и замыкающим Зуев пробежали через прихожую, прыгнули через заиндевелый порог и с визгом и гиканьем бултыхнулись в искрящийся сугроб.
Над всей огороженной проволокой территорией санатория горели фонари и в желтых кругах света плясали снежинки, сверкая и лучась. Начался снегопад. По расчищенным аллеям и дорожкам, прорытым в глубоком снегу, потянулись к главному входу темные фигурки, стекаясь к опущенному шлагбауму. Вахтер, в тулупе до пят и с поднятым овчинным воротом, вышел из своей теплой будки.