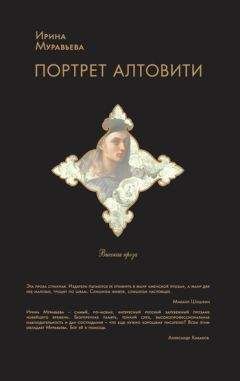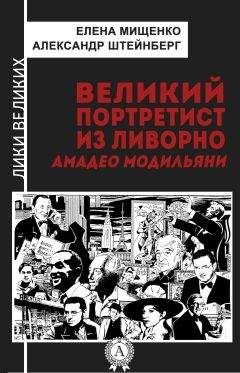Ознакомительная версия.
Все – ты, все потому – что ты.
Я недавно взялся перечитывать «Божественную комедию» – не бойся, радость, не стану я мучить тебя литературой, но когда Данте пишет о Беатриче, которую он видит только внутри света, всегда пронизанную желтым светом, то вот так же и я вижу тебя. Я не притворяюсь и ничего не преувеличиваю. Хорошо было ему, итальянцу длинноносому, – нашел слова и сохранил то, что видел, а мне приходится барахтаться в косноязычии, и еще боюсь, не сказать бы какую-нибудь неловкость, не напугать бы тебя глупой патетикой.
Ты – где бы ты ни была – все время рядом. Я тебя трогаю, я тебя ношу на руках, я глажу твое лицо, твою грудь, твои руки и ноги. Все твои изображения, мною выполненные, замечательно красивы. Вчера я долго разговаривал с тобой – помнишь? – где у тебя заплетена косичка и торчат ключицы, и, кажется, успокоил тебя, ты уже не плачешь. Кто знает, а не есть ли именно это – мыслимое, воображаемое, ни от чего, ни от каких дурных обстоятельств не зависящее существование двоих – высшая и самая благородная, самая благодарная и благодатная для души и тела форма совместной жизни?
Письмо мое тебе обещала передать женщина, о которой – пока не увидишь ее глазами – говорить трудно. Но, раз она передаст, ты ее и увидишь. Радость моя, не плачь. А.»
* * *
…Катя, я пришла. Ричард. Никогда не было такого снега. Откуда банка здесь? С цветами какими-то, одни стебли остались. Значит, кто-то был без меня. Принес цветы. Сейчас я ее уберу. Вот так. Саша такой умный, он для своих лет просто невероятный ребенок, опережает сверстников. Я только вчера прилетела. Завтра приступлю к делам. Нужно продавать дом в Нью-Рашел, нужны деньги. Я объяснилась с Элизе. Ты была права, мы с папой ничего не понимаем в людях. Он любит ребенка. А с деньгами я ему – ну, что делать, – помогу. Ричард, если издательство не принесет никаких денег до весны, я его продам, есть покупатели. Ты был бы не против, я знаю, потому что времена изменились. Что сейчас заработаешь книжками? Ну, в крайнем случае, пойду преподавать, придумаю что-нибудь. На доме в Нью-Рашел, я думаю, заработать можно очень неплохо, а квартира наша выплачена. Так что ты не волнуйся за меня, не такая уж я непрактичная. Вы мне простите Москву, вообще – вы простите меня. Катя, спокойно тебе там? Папа с тобой. Вот, опять повалило. Что же это за зима такая: один снег.
* * *
Доктор Груберт начал чувствовать почти отвращение к своей работе. Укорачивая носы, приподнимая и увеличивая груди, прижимая обратно к черепу оттопыренные уши, обманывая природу, превращая старуху в девушку (бабочку обратно в гусеницу!), омолаживая гомосексуалистов, он постепенно начал чувствовать себя каким-то почти шарлатаном, доктором Фаустусом с его опытами. За каждым измененным им человеческим обликом стоял обман, в результате которого все, и без того непонятное, становилось еще непонятнее.
Тропинка к душе, неброско проложенная природой, зарастала ложью.
Как странно, что месяц назад он и думать не думал о таких вещах.
…Может быть, у него у самого депрессия? Или это просто дикая, непроходящая усталость, вызываемая не столько количеством часов, которые он проводит на работе, сколько ни на секунду не отпускающими его мыслями?
…Вот он просыпается утром. Первое, что обжигает: Майкл! Потом цепочка: родители, Айрис, Элла, МакКэрот, смерть Николь, и каждый раз, в самом конце, – Ева Мин.
Шестнадцатого января – он уже собирался уходить – секретарша спросила, подойдет ли он к телефону.
– Кто?
– Просили не говорить. Женский голос.
Он подошел:
– Алло.
Она закашлялась.
– Вы что, простужены? Когда вы вернулись?
– В среду.
– Ну, – сказал он, уже слыша не ее, а только неприятно громкий стук своего сердца, – welkome back![74]
– Я бы хотела увидеть вас, – прозвучало робко, видно, боялась, что он откажет. – Если у вас есть полчаса…
– Когда? – грубовато, а все потому, что сердце своим стуком мешало ему, перебил доктор Груберт. – Вы что, хотите сегодня?
– Мне все равно.
– Если вам все равно, давайте, как тогда, в шесть часов. Там же. Нет, в шесть я не успею, – он сообразил, что нужно заехать домой, взять дневник, чтобы отдать ей. – Нет, в семь.
– В семь, – эхом повторила она.
Он опоздал на двадцать минут. Дикие пробки, не рассчитаешь.
Она уже сидела за столиком и внимательно смотрела в меню. Похудела, побледнела. Постарела, кажется. Да, постарела. Но спокойна. Тихая, спокойная. Увидела его и привстала навстречу. Доктор Груберт дотронулся до ее щеки холодными губами.
– Вы давно меня ждете?
– Только что пришла.
…Чужая совсем женщина. Уставшая. Красивая, как всегда. О чем нам с тобой говорить?
– Хорошо съездили?
Усмехнулась.
…Не хочу я ничего знать. У тебя своя жизнь, у меня своя. Спросил из вежливости.
– Какая операция у вас была, Саймон?
На сей раз он усмехнулся.
– Сердце. Неожиданно. Я про него и не вспоминал никогда. Но ничего, пока обошлось.
Она вынула из сумочки конверт.
– Мой долг, Саймон. Спасибо.
Он стал малиновым. Нужно взять. Не заострять на этом внимания.
– Спасибо. Зачем было торопиться…
Сунул конверт в карман пиджака.
– Что мы заказываем?
Теперь углубились в меню оба. Та же самая официантка с золотистыми веками остановилась над их головами в своем розовом, с черными разводами, кимоно.
– Вино будем пить? Или лучше сакэ?
Ева пожала плечами:
– Все равно.
– Тогда два сакэ, пожалуйста.
Принесли сакэ.
– За вас. Рад, что вы вернулись.
– Саймон, не проклинайте меня.
– «Проклинайте»! Объясните мне: зачем вы все это сделали? Ну, я имею в виду: пришли ко мне, дали этот… – он запнулся, вынул из портфеля синюю тетрадь, положил перед ней. – Зачем вам все это понадобилось? Если вы все равно собирались ехать в Москву, и там…
Смотрит на него исподлобья.
Какая все-таки она прелестная. Вот уж, действительно, лицо.
А что у нее внутри?
– Я, наверное, – она сморщилась, борясь с подступившими слезами, – я хотела… Нет, не могу.
Заплакала все-таки, оглянулась на официантку. Доктор Груберт опустил глаза.
…Страшное существо женщина. Самому бы не заплакать.
– Ева, – сказал совсем не то, что хотел. Само произнеслось. – Если я вам могу пригодиться, то я ведь никуда и не денусь. Не врите мне только.
Она отрицательно затрясла головой.
– Мне раньше, – продолжал он, не глядя на нее, – почти ничего никогда не снилось. Я человек без воображения, судя по всему. Сын мой – тот совсем другой, даже странно, что у такого чурбана… Но я не об этом… Так вот: не снилось мне, не снилось, и вдруг, как прорвало, начало сниться. И один сон… Ужасно неприятный. Такой, знаете, сон, что я никак не могу от него отвязаться. В нем произносится имя, которого я никогда и не слышал. Мне кажется, что оно вообще русское. Ви-та-лий. Есть у русских такое имя?
Ева кивнула.
– Так я и думал. Но корень-то латинский: vita – жизнь.
– О чем сон? – спросила она.
Доктор Груберт махнул рукой:
– К сожалению, из серии кошмаров. Будто я пошел покупать себе место для могилы, заплатил, потребовал квитанцию, и в ответ на это меня зверски избили. Огромный мужчина избивал. По имени Виталий. Откуда я взял это имя, убейте – не знаю. И само кладбище тоже странно выглядело. На наши и не похоже.
– Какой у нас с вами опять получается разговор, – делая упор на слове «опять», пробормотала она. – Мне, кстати, в Москве один человек сказал, что все мы живем не только здесь и не только сейчас. Это, сказал он, просто один из вариантов… Которых много. Так что все, чего мы в этой своей жизни не знаем и не понимаем, все это где-то должно быть понято и объяснимо… Объяснено, лучше сказать. Сны, может быть, связывают эти жизни. Может быть, они посредники…
– Ну, – доктор Груберт резко махнул рукой. – Бог с ними, с этими восточными премудростями! Вы когда теперь в Москву собираетесь?
Блестящий ее взгляд.
– Я больше не собираюсь.
– Что так?
– Вы знаете, – не отвечая на его вопрос, с силой прошептала она и вся перегнулась к нему поверх тарелок. – Я, кажется, правда поняла одно: внутри моего, или вашего, или еще чьего бы то ни было сегодняшнего дня ничего решить невозможно. Ни исправить, ни искупить. Так эта жизнь устроена. Что сделано – то сделано, что наворотили мы – то мы наворотили, что перепутали – то перепутали. Все грехи наши с нами, и ничего нельзя. Ничего! Нельзя, поздно! Потому что кто-то уже умер от этого, а кто-то заболел, а у кого-то все внутри стало другим. Или еще страшнее – чей-то ребенок, не дай Бог, заплатит. Не дай Бог! Но… – Она замолчала и опять прожгла его своими узкими, полными остановившихся слез глазами. – Но именно потому, что мы так неверно – ведь все об этом в глубине себя догадываются – именно потому, что мы так прожили, уже прожили, мы все без исключения, – я не знаю, как это лучше сказать, – именно поэтому я стала верить, что это не конец, что всю эту путаницу, всю эту паутину мы должны будем где-то распутать…
Ознакомительная версия.