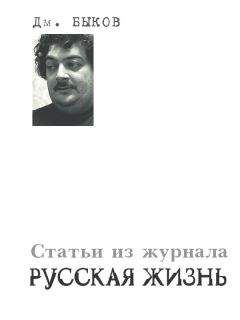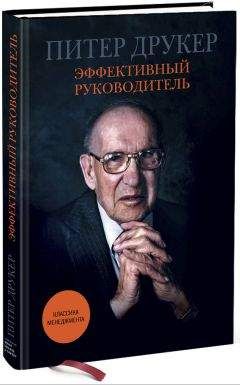Во всем этом, наверное, нет ничего дурного — у всякого свои фантазии, и лучше реализовывать их на бумаге или на сетевом форуме, чем в повседневной бытовой практике. Занятно другое — обилие русской тематики и русских авторов в этом жанре. Проще всего — и глупей всего — было бы сказать, что русский характер особенно склонен к самомучительству, что такова особенность и нашей сексуальности, но это было бы непростительной примитивизацией. В действительности перед нами не причина, а следствие нашей истории. Люди, которых слишком долго и бессмысленно мучили, привыкли обыгрывать эту тематику в эротическом ключе — что придает ей не только переносимость, но даже известную пикантность. Секс — та смазка, с помощью которой традиционное русское государственное садо-мазо (за отсутствием любых других практик вроде полюбовной гармонии) переносится несколько легче. В конце концов, рассказы пишутся не столько потенциальными палачами, — у которых на такие дела не хватает душевной тонкости, — сколько потенциальными жертвами, пытающимися хоть таким соусом приправить свою незавидную участь.
Мне возразят, что BDSM-искусство широко распространено во всем мире, что автор наиболее популярных садомазохистских комиксов Дольчетт (Dolcett) — канадец, а знаменитый изготовитель фотоманипуляций Footie Froog — скандинав (правда, сведения, которые сообщают о себе эти персонажи, вряд ли достоверны). Наконец, в Японии существует огромная и славная традиция садомазохистских мультиков манга, так что упрекать русских в эксклюзивной любви к самомучительству, вероятно, не стоит. Согласен — мы тут не одиноки, но японцы, по крайней мере, давно сделали свою тягу к самоуничтожению объектом пристального внимания, харакири там — давно отрефлексированная составляющая самурайской культуры, а среди чиновничества и менеджмента господствует настоящий культ самоубийства (увы, совершенно неизвестный их российским коллегам: кто тут повесится после обвинения в коррупции?). Вероятно, пора и россиянам задуматься, откуда в них эта тяга к репрессивному сексу и желание предаться запретительству на любом поле, эти поиски врага, русофоба, соблазнителя и отравителя, эта вечная убежденность в том, что их насилует весь остальной мир, и страстное желание однажды изнасиловать его так, чтобы мало не показалось. Думается, внятный психоанализ способен справиться и с этим комплексом — ибо некрофилия есть прежде всего показатель слабости. Мертвого не надо уговаривать и ублажать, и вообще с ним легче. Как и со стабилизированным обществом, в котором мы все живем.
Что до сексуального поведения в печатной русской прозе — ни для кого не секрет, что распределение ролей почти всегда сильно зависит от государственного строя. Секс давно перестал быть чем-то чрезвычайным для большинства западных литератур и культур, точно так же, как и отношения народа с государством в этих социумах давно вошли в берега и представляются чем-то почти рутинным; проголосовать или попротестовать для среднего американца и француза так же естественно и просто, как заняться любовью в автомобиле. Если же обозреть русские романы последнего десятилетия, в которых состоявшиеся бизнесмены грубо обладают восхищенными фотомоделями, — нельзя не увидеть самовоспроизводства одной и той же схемы: он чувствует в себе зверя, входит в нее грубо, страстно, злобно и т. д., в полном соответствии с тютчевской формулой «и роковое их слиянье, и поединок роковой». Далее авторы, однако, несколько преувеличивают женский (и народный) восторг по случаю столь грубого обладания: она застонала, выгнулась, сладострастно закричала — почувствовав в себе, наконец, напряженную плоть самца. Всякий легко продолжит по памяти этот глубоко патриотический по сути фрагмент. Кажется, и патриоты, и писатели идеализируют реальность: далеко не всегда грубость выглядит признаком силы — и, однако, почти во всех современных русских текстах эта симфония народа и власти описывается с восторгом и придыханием, хотя в действительности однообразие приемов уже несколько наскучило пассивной стороне, и она не прочь, чтобы ее иногда хоть поцеловали для разнообразия. Не все ж за волосы хватать.
№ 11(28), 5 июня 2008 года
с Ней и без Нее
Недавно Максим Курочкин написал пьесу «Водка, Е. я, Телевизор» — о том, как герой, едва ему исполняется тридцать, перестает выдерживать общество всех троих и вынужден отказаться от кого-то одного. Напрашивающийся ответ — Телевизор, но он, как выясняется, требует от потребителя наименьших усилий. Дальше, казалось бы, настает очередь Водки, — но в смысле трансформации реальности она гораздо эффективней телевизора. Настает очередь Е. и, и от нее, оказывается, не так трудно отказаться, поскольку удовольствие кратковременное, а проблем не оберешься, но она, в отличие от Водки и Телевизора, позволяет хоть иногда почувствовать себя человеком. В конце концов, герой отчаивается выбрать и решает, что пусть он лучше сдохнет, но продолжит двигаться по жизни в обществе всех троих.
Что касается меня, то телевизор меня никогда особенно не волновал, а е…я доставляла в основном приятные эмоции — возможно, потому, что я никогда не занимался этим для самоутверждения. А вот с третьей сущностью был настоящий любовный роман, тяжелый, многолетний, куда более бурный, чем с женщинами или идеями. Мы были вместе больше двадцати лет — реально долго, ни с одной женщиной не выдерживали столько. В конце концов я Ее бросил. Или Она меня — это уж как посмотреть.
Началось у нас, как тогда полагалось, в шестнадцать лет: это сегодня молодежь совокупляется с Нею по подъездам в двенадцатилетнем возрасте, а я до шестнадцати ни-ни. Была свадьба подруги — я ходил в одно московское литобъединение, и там молодая поэтесса выскочила замуж. Отмечалось событие в кафе, называвшемся, что ли, «Дельфин», мокрым февральским вечером накануне весны, да и во всем, в силу еще тинейджерского моего возраста, чувствовалась какая-то наканунность. Разумеется, как тогда велось на всех свадьбах, питье было обставлено сложными ритуалами — было много бутылок вина, из них одна с надорванной этикеткой, и под этой надорванной этикеткой таилась, значит, Она, родимая. Дело в том, что заказывать Ее в кафе было дорого, поэтому приносили свою. Это было запрещено, конечно. Поэтому прибегали к такому вот нехитрому способу, и официанты, конечно, обо всем догадывались, но терпели.
Какие-то были танцы, какая-то музыка, я довольно быстро захорошел — надо сказать, что вино на меня в те времена почти не действовало, и интересно было, как пойдет с Ней. С Ней пошло — Она всегда умеет обольстить с первого раза. Очень скоро я сосредоточился на подруге невесты, девушке несколько постарше меня, и увлек ее под лестницу целоваться. От нее пахло духами «Клима», которые до сих пор действуют на меня неотразимо. Но на самом-то деле, граждане, я целовался не с девушкой, а с Ней, и это было совершенно упоительно. Причем для первого раза Она даже не мучила меня похмельем — тогда как в гениальном фильме В.Тодоровского «Любовь» герой утром даже не может толком вспомнить, с кем это таким хорошим (хорошей) он вчера познакомился.
Тогда, в первом, цветочном периоде нашей любви Она еще усиливала только хорошее, как это всегда и бывает. С любовью ведь как? Поначалу она стирает, нейтрализует все плохое и усиливает все лучшее — вечерние дворы, фонари, запахи (хотя какие там запахи были у нашего детства? — асфальт, свежескошенный газон, снег). Потом начинает растравлять и плохое, придавая ему дополнительный романтический ореол, чуть ли не святость. Вот, помню, одно время было постоянно негде, отовсюду выгоняли — из кафе, из редакции, где я засиживался допоздна… Мы были затравленные и перманентно гонимые. Это помнится отнюдь не как счастье, Боже упаси, напротив, как сплошное горькое и едкое несчастье, но какое-то возвышенное, какое-то, я не знаю, красивое. И вот так же было с Ней: Она всему придавала привкус падения, литературный, шикарный. Как Леонид Андреев, который однажды где-то под Петербургом напился и не хотел идти на станцию, ложился в снег и декламировал блоковское: «И матрос, на борт не принятый, идет, шатаясь, сквозь буран… Все потеряно, все выпито — довольно, больше не могу». И это не смешно, а трагично и поэтично.
Одна умная девушка сказала мне как-то, что водка — универсальная смазка на трущихся частях жизни, смазка между тобой и миром, если угодно, — это точно, много раз убеждался. С Ней как-то легче проходит то, что без Нее: так иногда надо взять с собой любимую, чтобы преодолеть какое-то решительное испытание. И поскольку в девяностые годы на всех нас без посредничества, впрямую обрушился мир, каков он есть, — со всеми его ледяными ветрами, бесприютностью, бессмысленностью, — я проводил с Ней очень много времени. У меня была тогда любимая критикесса и собеседница, ровесница, но никакого эроса, — чистый взаимный интерес, полемика, ну и Она, конечно. Мы оба по этой части ставили беспрерывные бессмысленные рекорды. Я помню, Она оказалась идеальной собеседницей: мы говорили косноязычно, но Она все понимала и даже нам переводила. Она придавала разговору смысл, страсть, напор, второе метафизическое измерение, каждое слово начинало мерцать аурой новых смыслов и даже становилось цветным. Многие вопросы казались разрешимыми. Никогда не забуду, как однажды, на дне рождения общего друга, мы заспорили: будущее есть или будущего нет? Не помню уже сейчас, с чего этот спор начался и к чему пришел, но так или иначе мы вернулись с балкона в комнату, разбудили третьего друга, спящего лицом в салате, подняли его за кучерявую шевелюру и спросили: будущее есть или будущего нет? Он поморгал близорукими глазами и спросил: в онтологическом смысле или в гносеологическом? Прекрасное было время. Вот это молодость и есть.