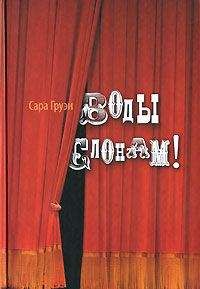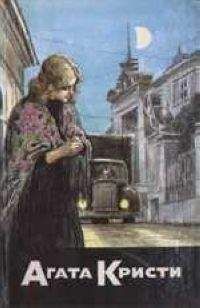Бог ты мой… И что я только буду делать, когда она уедет? Стоит вспомнить о ее неизбежном отъезде, и меня одолевает печаль. Но на смену печали тут же приходит радость: я уже так близко, что слышу музыку, доносящуюся из шапито. Ах, эти сладкие, сладкие звуки цирковой музыки! Я прикусываю язык и тороплюсь. И вот я почти у цели. Еще несколько ярдов — и…
— Эй, папаша! Куда это вы?
Я ошеломленно останавливаюсь. Поднимаю глаза. За билетной стойкой маячит парнишка в обрамлении пакетов с розовой и голубой сахарной ватой. На стеклянном прилавке перед ним сверкают игрушки. На брови у него кольцо, в нижней губе — шпилька, а на каждом плече по татуировке. И даже ногти он в черный цвет выкрасил.
— А ты как думаешь, куда? — сердито спрашиваю я. У меня нет времени на разговоры: я и так уже достаточно пропустил.
— Билеты у нас по двадцать баксов.
— Но у меня нет денег.
— Значит, никуда вы не пойдете.
Я до того поражен, что не могу подобрать слов, и тут за моей спиной появляется еще один человек. Он постарше, чисто выбрит и хорошо одет. Держу пари, это управляющий.
— В чем дело, Расс?
Парнишка тычет в меня пальцем.
— Этот старикан пытался промылиться без билета.
— Промылиться! — восклицаю я, пылая праведным гневом.
Едва взглянув на меня, управляющий поворачивается к парнишке.
— Ты что, Расс, совсем сдурел?
Расс хмурится и опускает глаза.
Управляющий с благосклонной улыбкой обращается ко мне:
— Сэр, я буду счастлив видеть вас на нашем представлении. Может быть, вы предпочтете кресло-каталку? Тогда нам не придется искать для вас место получше.
— Я бы не отказался, спасибо, — отвечаю я, чуть не плача от облегчения. Перепалка с Рассом вывела меня из себя: неужели я проделал весь этот путь для того, чтобы меня завернул подросток со шпилькой в губе? Страшно подумать. Но теперь-то все в порядке. Я не только добрался до места назначения, но, быть может, меня еще и посадят у манежа!
Зайдя за шатер, управляющий возвращается с обычным больничным креслом-каталкой. Он помогает мне сесть и везет ко входу, а я наконец позволяю своим ноющим мышцам расслабиться.
— Не обращайте внимания на Расса, — говорит он. — Несмотря на всю эту мишуру, он хороший мальчик, пусть и не без странностей: представляете — пить пьет, а отливать не отливает.
— В мое время за билетной стойкой работали одни старики. Так сказать, конец пути.
— Вы служили в цирке? — спрашивает он. — А в каком?
— Даже в двух. Сперва в «Самом великолепном на земле цирке Братьев Бензини», — гордо отвечаю я, смакуя каждый слог, — а потом у Ринглингов.
Кресло останавливается. И вот он уже вновь передо мной.
— Как, вы работали у «Братьев Бензини»? А в каком году?
— Летом 1931-го.
— И вы были там во время той самой паники?
— А то как же! — восклицаю я. — Черт возьми, в самой гуще событий. Прямо в зверинце. Я был цирковым ветеринаром.
Он недоверчиво на меня таращится.
— Не может быть! Если не считать пожара в Хартфорде и железнодорожной катастрофы, погубившей цирк Гагенбека-Уоллеса, это ведь самое известное из цирковых бедствий всех времен и народов.
— Да, это было нечто. Я помню все как вчера. Черт возьми, я помню все лучше, чем вчера!
Он моргает и протягивает мне руку:
— Чарли О'Брайен Третий.
— Якоб Янковский, — представляюсь я, пожимая ему руку. — Первый.
Чарли О'Брайен смотрит на меня долго-долго, прижав к груди руку, словно давая обет.
— Мистер Янковский, мы немедленно отправляемся в шапито, иначе вы ничего не застанете. А потом прошу вас оказать мне честь выпить со мной в моем вагончике. Вы ведь живая история! Неужели я услышу о той катастрофе из первых уст? В общем, рад буду видеть вас у себя после представления.
— Я с удовольствием, — отвечаю я.
Он вытягивается во фрунт и возвращается за кресло.
— Стало быть, договорились. Надеюсь, представление вам понравится.
«Прошу вас оказать мне честь!»
Он везет меня прямо к манежу, а я благостно улыбаюсь.
Представление закончилось — просто восхитительное представление, скажу я вам, хотя и без размаха «Братьев Бензини» и тем более Ринглингов, но это и понятно: туг нужен целый поезд.
Я сижу за пластиковым столиком в потрясающе оборудованном доме на колесах, потягиваю не менее потрясающий виски — «Лафрог», если мне не изменяет память, — и разливаюсь соловьем. Рассказываю Чарли обо всем подряд: о родителях, о романе с Марленой, о том, как погибли Верблюд и Уолтер. Рассказываю, как полз ночью через весь поезд с ножом в зубах, замышляя убийство. Рассказываю о сброшенных с поезда, о панике, о том, как задушили Дядюшку Эла. И, наконец, о том, что сделала Рози. Я не задумываюсь ни на минуту. Лишь открываю рот — и слова сами слетают с языка.
Облегчение не заставляет себя ждать. Долгие годы я держал все это в себе. Пожалуй, меня должна была бы захлестнуть вина, ведь это же предательство, но на деле, глядя на одобрительно кивающего Чарли, я чувствую себя очистившимся от грехов. Или даже искупившим их.
Я до сих пор не могу сказать наверняка, знала ли Марлена: в зверинце в тот миг творилась полная неразбериха, и непонятно было, что она видела, а сам я никогда не поднимал этого вопроса. Да я и не мог — боялся, что она станет иначе относиться к Рози, а по правде говоря, и ко мне самому. Да, Рози могла убить Августа, но и я желал его смерти.
Поначалу я молчал, чтобы защитить Рози — ведь она, без сомнения, нуждалась в защите, в те дни слонов казнили нередко, но почему я не рассказал Марлене? Может быть, она и охладела бы к Рози, но едва ли стала бы хуже с ней обращаться. За все время, что мы были женаты, у меня был от нее только один секрет, да так навсегда и остался. С годами сам секрет теряет смысл. Но то, что он у вас есть — отнюдь.
Услышав мою историю, Чарли не приходит в ужас и не принимается меня осуждать. Облегчение мое столь велико, что на панике рассказ не заканчивается. Я выкладываю ему, как мы работали у Ринглингов и как ушли после рождения третьего ребенка. Марлене с избытком хватило жизни на чемоданах — судя по всему, захотелось свить собственное гнездышко, да и Рози старела. К счастью, той весной штатный ветеринар Брукфилдовского зоопарка в Чикаго отдал Богу душу, и я оказался бесспорным кандидатом на его место. Ведь у меня был не только семилетний опыт работы с экзотическими животными и просто-таки отменный диплом. У меня был слон. Мы купили дом в сельской местности — в достаточном удалении от зоопарка, чтобы позволить себе держать лошадей, но не слишком далеко, ведь иначе ездить на работу было бы истинным мучением. Лошади старели, но Марлена и дети время от времени на них катались. Конечно же, мы взяли с собой и Бобо. С годами он стал доставлять больше беспокойства, чем все дети вместе взятые, но мы его все равно любили.
О, это были лучшие дни, безмятежнейшие годы. Бессонные ночи, плачущие дети. Дом, который выглядел порой так, как если бы по нему пронесся ураган. Пятеро детей, шимпанзе, а у жены такой жар, что она не встает с постели. За вечер у меня четырежды могло убежать молоко, от пронзительного визга раскалывалась голова, а из-за трений с полицией приходилось брать на поруки то одного сына, то другого, а как-то раз и Бобо. И все равно это были хорошие годы, просто замечательные.
Но время идет. Только что мы с Марленой были по уши во всех этих семейных делах — и вот уже дети время от времени берут машину покататься, а потом один за другим поступают в колледж и разъезжаются по городам и весям. И вот я здесь. Мне за девяносто, и я одинок.
Чарли, храни его Господь, слушает меня с неподдельным интересом. Взяв бутылку, склоняется ко мне. Но когда я протягиваю ему стакан, в дверь стучат. Я отдергиваю руку, как от огня.
Чарли соскальзывает со скамейки и выглядывает в окошко, двумя пальцами отодвинув занавеску в шотландскую клетку.
— Вот черт! Легавые. Хотел бы я знать, что случилось.
— Это за мной.
Он строго и пристально смотрит на меня.
— Что?
— Это за мной, — повторяю я, стараясь не отводить взгляда. Задачка не из легких: ведь у меня нистагм — последствия давней контузии. Чем больше я стараюсь не отводить взгляда, тем сильней глаза дергаются туда-сюда.
Чарли опускает занавеску и идет к двери.
— Добрый вечер! — слышится из-за двери низкий голос. — Мне нужен Чарли О'Брайен.
Говорят, он обычно здесь.
— Вот он я. Чем могу служить?
Нам нужна ваша помощь. Из дома престарелых, здесь недалеко, ушел старик. Служители полагают, что он мог пойти сюда.
— Ничего удивительного. Цирк нравится и детям, и старикам.
— Да. Конечно. Но дело в том, что ему девяносто три, и он очень слаб. В приюте надеялись, что после представления он вернется сам, но прошло уже несколько часов, а от него ни слуху ни духу. Они здорово беспокоятся.