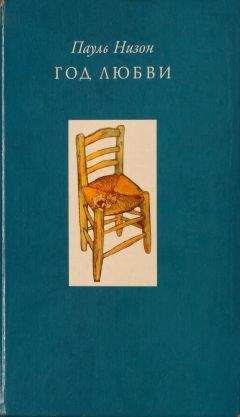Этой же боязнью зачахнуть объясняется и другая тяга, время от времени выталкивающая меня из насиженного места, подталкивающая к алкоголю, к опасности саморазрушения. Тяга к одурманиванию себя. Из страха утратить то, что тебя питает, поставляет образы? Можно ли обойтись без этого качания между желанием вырваться из внутреннего плена, окунуться с головой в жизнь (пока она не зазвенит, как лесная опушка летом или когда ударяют по камертону) — и возвращением в себя, в пустыню, в штольни? А потом поднимаешься из глубин, облепленный грязью, увешанный водорослями… Неужели, чтобы появилось настоятельное желание писать, нужно впасть в состояние опьянения, оказаться в положении утопающего, терпящего бедствие? Неужели мне предстоит всякий раз доводить себя до крайности?
Жизнь можно потерять или обрести. Я ее ищу. Когда я говорю, что ищу жизнь, то имею в виду, что ищу я жизненность, пробуждение, возрождение, да, возрождение! Пробуждение жаждущего постичь жизнь от неуверенности, нойи, меланхолии, безысходности, летаргии. Я окунаюсь в жизнь с той же страстью, с какой отдаюсь работе; жажда жизни, погружения в нее, пробуждения от летаргии отрывает меня от письменного стола, а внутренняя концентраций отвлекает от жизни, придает новые силы. Я убегаю в жизнь из страха оказаться в плену своей комнаты, бегу недалеко, и там, среди людей, начинаю тосковать по письменному столу, по тому, что дает мне опору.
Я сижу в своей комнате-пенале, как в зале ожидания. Я жду.
Я только что натер жиром оба свои любимых чемоданчика. Один, старый кожаный чемодан, я называю его чемоданом Бассано, достался мне в Лондоне, точнее, я купил его в магазине «lost property»,[13] в Блумсбери в 1968 году, купил из-за его необыкновенной продолговато-узкой формы, он напоминает футляр для инструментов, в ширину не больше стандартного листа бумаги, но напоминает он и чемоданчик девушки-служанки, особенно в открытом виде, внутри он обит серым тиком. Чемодан был изрядно потрепан, но качество кожи внушало доверие. Однако с годами он все же окончательно износился, углы и края начали стираться в пыль, отчего, когда я носил его с собой, на брюках у меня появлялась рыжая опушка, как если бы я брел по колено в цветочной пыльце. В конце концов он буквально разъехался по швам. Недавно его снова починили, швы теперь держат, протертая жиром гладкая кожа блестит. Я почти суеверно привязан к этой вещи.
Другой чемоданчик для рукописей я приобрел еще раньше, кажется, в 1965 году, в магазине старинных кожаных вещей «Лилиан» на Банхофштрассе в Цюрихе, выторговал во время полной распродажи, в ту пору мои финансовые дела были в плачевном состоянии. Возможно, я не нуждался ни в каком чемоданчике, но мне нужно было доказать себе, что еще не все потеряно, я занял денег и вложил их в этот предмет роскоши, рассчитанный на долгую жизнь, инвестировал их в будущее, словно в насмешку над своим тогдашним положением.
Пока я натирал чемоданы, голубятник скандалил громче обычного, вероятно, хотел обратить на себя внимание. Он не любит, когда я исчезаю из поля его зрения. Должно быть, я давно уже стал неотъемлемой частью его быта, должно быть, наблюдение за моей персоной превратилось в его повседневное занятие.
Чемоданчики — мобильная часть моей домашней утвари. Годами я таскаю в них рукописи, питаю, кормлю их бумагой до тех пор, пока они не станут упругими, и в один прекрасный день, если мне повезет, рукопись превращается в книгу, бумаги оставляют чемоданчик, из Бассано выныривает книга — точно так же, как и я выныриваю или выхожу из своих писаний, как из штольни, другим или обновленным, так я это себе представляю.
Когда я выторговывал оба свои чемоданчика, я жил в маленькой комнате недалеко от цюрихской Банхофштрассе, бок о бок с итальянскими рабочими, когда поздно вечером они готовили свой ужин, мою комнатенку заполняли чудесные запахи, которые смешивались с запахами расположенного на первом этаже магазина сыров. Я тогда писал по ночам, так как днем заработка ради трудился в газете. Мое окно выходило на давно зарекомендовавший себя с лучшей стороны ресторан, я слышал, как он закрывался, слышал сердитые выкрики не желавших уходить пьянчуг, слышал, как просыпалась улица ранним утром, слышал шаги тех, кто приходил на работу в первую смену, легкий шум поливальной машины, чистившей улицу, возню в кафе, расположенном чуть дальше, там делали уборку. Прежде чем лечь спать, я по обыкновению выгуливал собаку. Одному итальянскому рабочему машина отдавила пальцы ног, с тех пор он хромал, но не жаловался, когда рассказывал мне, что с ним произошло, напротив, был этому рад, так как он стал получать страховую пенсию, его перевели на более легкую работу и в целом жить он стал лучше.
Я снимал немало таких комнат или каморок в своей жизни, благодаря им я многое повидал в городе и даже в мире. Они были обставлены одними и теми же приспособлениями для работы и хранили много тайн, в них собирались духи, накапливался необходимый для работы воздух. Комнаты становились футлярами для создававшихся произведений, и когда работа наконец подходила к завершению, надо было сбросить старую кожу, сменить комнату. Однажды я снимал курятник на берегу Цюрихского озера, один специалист по рекламе перестроил его в мастерскую с душем и крохотной кухней в виде ниши, просто шик, наверху, под потолком, было устроено спальное место. Вся передняя стена была стеклянная, окно выходило на озеро, но все же это был курятник, он стоял посреди таких же сарайчиков, раньше здесь была птицеферма. Однажды в этой мастерской у меня прорвало водопровод, пол был залит водой, кошка, которая прибегала ко мне днем, спасалась на письменном столе, я не знал, где находится основной кран, и побежал за помощью на расположенную по соседству фабрику, она давно не работала, в ней нашла прибежище коммуна, женщины и дети, мужчины днем работали или учились, один из них случайно оказался на месте и пришел мне на помощь.
Я не производитель книг, я вообще не книжный человек, жалуюсь я Беату. Книги для меня всего лишь остатки моей жизнедеятельности, мои книги выносят меня к свету или на твердую почву, говорю я ему. Когда книга выходит в свет, меня уже в ней нет, это ты понимаешь?
Но ты же можешь бросить это занятие, говорит Беат. Никто не заставляет тебя писать книги, почему же ты не бросаешь этим заниматься?
И все же, говорю я Беату, и все же меня подгоняет мысль о заказе или, лучше сказать, об экспедиции, когда я наконец сажусь писать книгу, я чувствую себя в пути. Но до этого… Пока дойдет до писания… это как…
Как выносить ребенка, говорит Беат, можешь смело употреблять это слово. Раз, уж намекаешь на беременность.
Но пока материал, пережитый тобой, наберется в достаточном количестве, сквасится и переварится, думаю я, проходит чертовски много времени, он лишь лет через десять поднимается из глубины, становится видимым и доступным. А до того остается непроницаемым, я очень страдаю от этого.
Мой крест в том, что, я бреду по колено в тумане, в дьявольском мраке, говорю я. Хуже того, я засыпан жизнью, думаю я, и писательство для меня — способ освободиться из-под завала. Я пытаюсь выбраться наружу, цепляясь за нить писательства.
Тебе надо бы выражаться яснее, говорит Беат. Ты считаешь, что не умеешь сочинять — или не хочешь. А может, братец, тебе просто нечего сказать? И ты вынужден без конца разглядывать собственный пупок. Почему ты непременно хочешь видеть в себе биографа собственной жизни? Если ты зациклился на себе, тебе можно помочь. Сходи на, прием к психиатру, черт, тебя побери.
Беат, говорю я, моя проблема лишь в том, что я пишу не о том, что знаю, а для того, чтобы что-то узнать; что меня интересует только неизведанное или глубинное, то, что не спутаешь с игрой воображения. Я подбираюсь к своему предмету ощупью, я хочу установить с ним контакт. Мне нужно разведать окрестности, знай я их заранее, тогда и писать незачем. Моя проблема — разведка, копание вглубь или подготовка к этому, а не упаковка готового материала. Про себя я думаю, что этого не объяснишь тому, кто сам не погружен в эти проблемы. Начинать я могу только в том случае, если почувствую тайные мотивы зарождающейся во мне книги. Когда предмет заявляет о себе, так сказать, биением пульса, запахом тела, весом, своей невидимой жизнью.
Если я начну его осязать. Тайные мотивы — не суть моего собственного опыта, а лишь та его часть, которую я разделяю с другими людьми, в том числе и с книгами, да, они как неизвестно откуда взявшееся воспоминание, нечто очень древнее, лишенное возраста. Они — нечто легендарное, то, что я могу в лучшем случае спрятать в своем материале, развить, быть может, оставить для него место, но не могу выразить словами. Они проявляются не в сюжете или действии, они вибрируют или молчат в глубине и поднимаются из произведения букетом нежнейших ароматов.