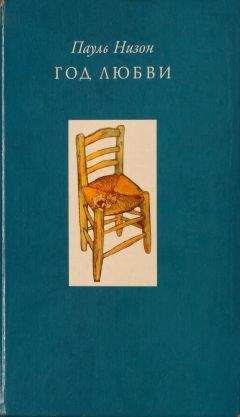Они во фразах. Я гоняюсь за ними, пытаюсь настичь их в своих фразах. Тогда кажется, что я бегаю по бумаге, как водный паук по воде. И что не стало фразой в таком сомнамбулическом смысле, остается бумагой, остается мертворожденным словом, о котором и говорить нечего.
Книга, подумалось мне недавно, когда я поднимался по ступенькам улицы Бекереля к собору Сакре-Кёр, должна отделяться от автора, от его биографии, от его круга идей так, как отделяется мыльный пузырь от соломинки и взмывает в воздух, загадочно мерцая всеми цветами радуги. Книга должна иметь запах, как воспоминание. Должна пахнуть так, чтобы читатель, вспомнивший вдруг о книге, или о каких-то местах из нее, или просто о вызванном ею настроении, не мог понять, откуда все это появилось у него в голове. Он впитал в себя это, оно дает о себе знать из глубины, оттуда протягивает свои щупальца. Что бы это могло быть? — недоумевает читатель. Почему я об этом думаю? Мои тайные мотивы стали частью его самого. Так и должно быть, кричу я Беату, они должны растворяться в желудке памяти.
Да не кричи ты так, или у тебя ум за разум заехал? — говорит Беат, он растянулся на моем диване и листает газету. В зубах у него незажженная сигарета, одна из тех длинных и тонких штучек, которую он, принципиальный противник курения, позволяет себе только после рюмки коньяка.
А может, я затрагиваю жизнь, только когда пишу? И надеюсь, что когда-нибудь обойдусь без этого вспомогательного средства, без костылей, то есть без писательства?
Ты все еще размышляешь о работе писателя, говорит Беат. А ты смотри на нее как на ремесло. Воспринимай как ремесло.
Ремесло, думаю я, хорошее слово. Но что мне делать со своим ремеслом в эти чертовски длинные инкубационные периоды? Когда доход уменьшается, ручеек становится все тоньше и наконец иссякает, деньги уходят, как уходит тепло из печки; а счета, как им и положено, с бесстыдной регулярностью приходят в дом; их стопка растет на столе или в ящике стола, потом приходят напоминания, письма с угрозами; и неизвестно, откуда взять денег. Я вижу перед собой только счета и начинаю подсчитывать, сколько кому должен и на какую крайнюю отсрочку могу рассчитывать. У кого нет денег, тот должен не учиться, а работать, говаривал мой дядя Алоис, даже если придется убирать навоз.
И я начинаю смотреть на все сквозь призму счетов, неоплаченных счетов, которые плавают на поверхности моего сознания, как утопленники; я окидываю взглядом прожитую жизнь и прихожу к крайне неутешительному выводу, что мне никогда не избавиться от долгов, вся моя жизнь представляется мне одним-единственным неоплаченным счетом; я вспоминаю о муках, отчаянных усилиях и ухищрениях, которых стоили мне мои книги, и моя жизнь видится мне сплошной неудачей, к тому же не лишенной претензий и авантюризма; человек без денег — бездельник и тунеядец, говорит разбойник в одноименном романе Роберта Вальзера: у кого нет денег, тот мошенник. Правы те, кто так думает, говорю я себе в такие минуты, я и впрямь чувствую себя виноватым перед ними, в том числе перед арабами и чернокожими в нашем квартале. Уже ребенком я стыдился того, что происходило у меня внутри.
Все страхи и сомнения, какие я когда-либо испытывал за свою писательскую жизнь, выползают отовсюду и лишают меня чувства уверенности в себе.
Беат считает, что писательство ничем не хуже и не лучше любого другого занятия или ремесла; например, ремесла краснодеревщика, что живет неподалеку; так считает Беат или делает вид, что считает; глаза его добреют, когда он упоминает краснодеревщика: все зависит от качества, от совершенства вещи, больше ни от чего; утверждения; что ты выше этого, что твои чувства какие-то особенные, кажутся устаревшими и смешными, говорит он.
Если следовать мнению Беата, то книги — продукты ремесла, предназначенные для потребления; когда я говорю себе, что книги проглатывают или с трудом расшифровывают, они развлекают, дают знания, клевещут, просвещают, заставляют забыться, радуют; они цветут один сезон и отправляются на полки, в книжные шкафы, становятся частью обстановки, как комоды краснодеревщика, как драпировка стен; или становятся достоянием культуры… все так, но что мне делать в этом случае с иррациональными, иногда убийственно трудными обстоятельствами, в которых они возникают, что делать с душевными тратами? Что делать с тем, что кружит голову, спирает дыхание, уводит вглубь, что делать с взрывной силой, с возрождением к новой жизни, с жизнью, которая не только скрыта в книге, если это настоящая книга, но и постоянно исходит из нее, излучается ею? Предоставь решать этот вопрос читателю, тебя он не должен волновать. Делай свое дело как можно лучше, так, как ты умеешь.
Беат, говорю я, конечно же, я переоцениваю значение своей злосчастной профессии, прежде всего потому, что она требует крайнего одиночества; и поневоле видишь жизнь, отданную служению этой профессии, как нечто единственное в своем роде, а собственную персону как нечто уникальное, почему бы и нет. Я, кстати, не обязан отчитываться перед тобой, я инициатор и владелец этого предприятия, я иду на риск и при этом отнюдь не презираю инкрустатора и канцелярского служащего.
И этот тип выбрал свободу, насмешливо замечает Беат. Мимоза! О Господи, он — и писатель!
Сейчас я думаю о том, как стою иногда, прислонившись к стойке бара, погруженный в свои мысли, посреди шума и говора, прекрасно стоять вот так в баре, тебя со всех сторон окружает город, и вдруг я начинаю видеть, чувствовать, бормотать, из воды выпрыгивают рыбы, и я знаю, что благодаря ожиданию, благодаря прогулкам по городу, мечтам и снам, то есть тому, чем я занимаюсь, я оказываюсь в состоянии поднять что-то из глубины… Но если этого не происходит и все во мне кажется мертвым и я действительно не могу предъявить ничего, кроме своей свободы, то в этом случае она есть не что иное, как свобода раздаривать себя, свобода околевать; тогда меня охватывает страх, и мне представляется, что я обращаюсь за помощью в учреждение, ведающее культурой, обращаюсь к господину управляющему с просьбой о поддержке своего предприятия, причем неотложной, мне срочно нужна помощь, глубокоуважаемый господин управляющий, мог бы сказать я и получил бы в ответ: хорошо, мы рассмотрим ваше дело, но пока наберитесь терпения, вы же понимаете, что мы должны думать о всех деятелях культуры, включая краснодеревщиков, цветоводов и обойщиков, не только о вас одних… Перестань, говорю я себе, книги — это подарок, их тоже нужно делать, но прежде всего их нужно пережить. Жизнь становится все виртуознее, а человек похож на виолончель: он не зазвучит до тех пор, пока его не коснется смычок художника, кажется, эти слова я прочитал у Максима Горького.
Я все еще не созрел, все еще не мог сесть за писание книги, но я, как и прежде, делал заметки, разогревал пальцы, во время прогулок позволял рыбам совершать свои прыжки, а дома пытался вспомнить об этих прыжках рыб в моих мыслях и, случалось, снова бежал на улицу В НАДЕЖДЕ ПОЙМАТЬ УСКОЛЬЗНУВШУЮ РЫБУ, но потом садился за машинку и гонял каретку туда и обратно вслед за фразами, которые вытекали из меня, пока не иссякал поток.
Видит Бог, я гоняюсь здесь, дома, не за жизнью, а в лучшем случае за словами, сейчас я искатель слов, но где она, жизнь? — спрашиваю я себя
и потом мне снится, что я еду в поезде, сижу в купе вместе с другими писателями и говорю своему соседу, что когда я завязываю шнурки на своих ботинках, то слышу, что говорят люди в другом месте, я обнаружил, что могу подслушивать свои шнурки, прослушивать, как запись на магнитной ленте, и, вглядываясь в сперва недоверчиво, а потом снисходительно улыбающееся лицо соседа, говорю: невероятно, но это так. Эта сверхъестественная способность свалилась на меня самым естественным образом; я обратил на нее внимание во время такого ничтожного занятия, как завязывание шнурков. И сразу после этого мне приснилось, что с помощью листа бумаги я могу подниматься и летать по воздуху. Уже не помню, каким образом мне удавалось, держа в руках лист бумаги, взмывать в воздух, но во сне я делал этот снова и снова и каждый раз удачно, я летал, держась за лист бумаги, я крепко вцепился в него, словно в воздушного змея, и парил на высоте две тысячи метров над огромным ландшафтом, над громадным районом, включающим в себя три страны, это был мой район, ландшафт был холмистый, предвесенний, зеленовато-коричневый или коричневато-зеленый, пустынная местность, безлюдная. Скорее швейцарский, чем французский ландшафт, я без труда оглядывал его с высоты птичьего полета, отличный обзор, в то же время я видел внизу малейшее движение жизни; а потом, позже, когда я уже спустился на землю и шагал на своих двоих, мне встретилось скопление людей, должно быть, журналисты, репортеры, они собрались по какому-то важному поводу, в одной из групп я узнал своего дорогого Беата, он тоже был репортером, я подошел к нему, хотя он жестами показывал, что ему некогда, не до меня, тогда я быстренько написал о случившемся со мной чуде на листке блокнота, я рассказал об этом почему-то, должно быть, из озорства, в форме корявого четверостишия, вырвал листок из блокнота и сунул его Беату, я должен был рассказать кому-нибудь о том, что со мной было, и позже, когда у Беата нашлось для меня время, он сказал, что четверостишие так себе, далеко от совершенства, и тема не представляет интереса, на смысл сообщения он вообще не обратил внимания, принял его за стихотворение, в моем сне он предстал узколобым специалистом.