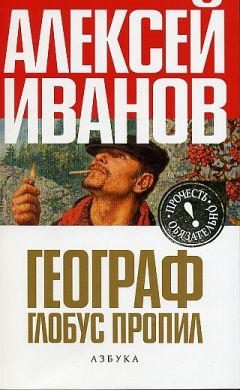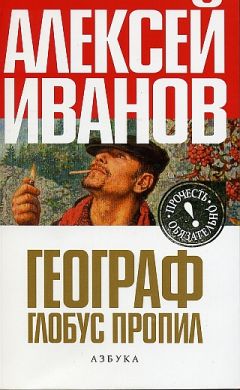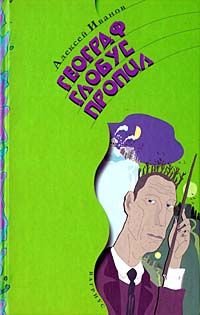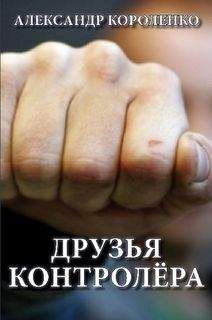— Вот времена-то были, а, Географ? — говорит мне Градусов.
— Воще жара, — соглашается Чебыкин.
— Я бы здесь умерла, если бы сюда попала, — признается Люська.
— У нас в деревне один мальчик сидел в тюрьме, — говорит Тютин. — Так, рассказывает, ничего, жить можно.
— Жить можно где угодно, — замечает Маша.
— Я бы, блин, отсюда сразу в побег ушел, — заявляет Градусов.
— Ну и сдох бы в тайге.
— В тайге-то эротичнее, чем здесь, — говорит Чебыкин.
***
Мы попадаем к массивному одноэтажному зданию, по окна врытому в землю. На его крыше растут кусты.
— О, карцер! — делано-беззаботно говорит Градусов. — Кондей!
Я чувствую, как по всем нам промахнула волна жути. Словно гуляли по заброшенному кладбищу и вдруг увидели свежеразрытую могилу.
Первым сквозь решетку на входе в карцер пролезает Чебыкин.
— А-а! Тут скелет прикованный!.. — гулко кричит он изнутри.
— Мамочка, я боюсь! — стонет Люська.
Отцы запихивают ее внутрь и лезут сами. Последним лезу я.
Полумрак. Какие-то клетушки. Белые нитки корней, свисающие с потолка, бесплотно касаются лба и ушей. Под ногами шуршит хлам. Толстые, совсем крепостные стены и узкие-узкие проходы. Амбразуры окон перекрыты двумя слоями могучей решетки.
Отцы разбредаются по камерам. Овечкин на пробу качает решетку на окне. Чебыкин корчится на нарах. По его лицу видно, что он прислушивается к своим ощущениям. Маша стоит в стороне, обхватив себя руками за плечи. Она ошарашенно озирается. Глаза ее поблескивают в темноте. Градусов пинает по стенам, словно испытывает их на прочность. Люська, встав на цыпочки, таращится в окно и вдруг дико визжит. Всех подбрасывает.
— Щас как дам в бубен! — в сердцах орет Градусов.
— Вон там, смотрите!.. — жалобно говорит Люська, показывая в окно.
Поначалу из окна видны только темные, спутанные заросли — голые и дикие. И тут вспышка страха бьет в виски. Оказывается, в зарослях, почти неразличимые, еще стоят столбы с натянутой проволокой. Они словно древние, черные идолы, вышедшие из пугающих, зловещих тайн язычества.
— Как лешие, — в лад моим мыслям вздыхает Демон.
— Все это — чертовщина какая-то! — с силой говорит Маша и проводит по глазам ладонью, словно снимает паутину.
Приглушенно переговариваясь, отцы наконец выбираются из карцера. Я же присаживаюсь в уголочке камеры на нары покурить. Пальцы мои дрожат. Эта Рассоха меня доконала. И тут за стенкой я слышу голоса.
— Маша, ну что опять?.. Чего ты психуешь?..
— Ничего... Место такое... нехорошее. Концлагерь.
— Не ври... О чем ты вчера говорила с Географом?
— Что за допрос, Овечкин? Я тебе кто, жена, что ли?
— Маш, ну ты же все понимаешь, чего я тебе буду объяснять...
— Ну да, понимаю... И ты ведь тоже понимаешь.
— Что?
— Ты хороший человек, — помолчав, с трудом отвечает Маша. — И ты мне очень нравишься... Но я тебя не люблю. Вот чего.
Овечкин ничего не говорит. Кажется, он даже не дышит.
— Извини, — искренне добавляет Маша. — Я не хотела сделать тебе больно. Но это правда. Не расстраивайся, пожалуйста. Бывает и хуже.
«Бывает и хуже», — согласно думаю я, сидя на нарах в старом карцере посреди брошенного лагеря.
***
Из Рассохи мы выплываем с большим опозданием. И опять створы, леса, дальние, серые в хмурую погоду хребты, белые скалы, мглистый простор. По берегам появляются приметы жилья — луговины с жердями для стогов, броды, просеки. В бегущих облаках проскальзывают тяжелые, темные, вислобрюхие тучи, как льдины в шуге. И точно — через полчаса опять начинает сеять мелкая, нудная морось.
Отцы тотчас забираются под тент и начинают резаться в «дурака». Снаружи уже не остается никто. Всем кажется, что поход как бы уже закончился, осталось только переждать время. В разговорах пересыпаются имена тех, с кем скоро предстоит увидеться, и через слово — «дома», «дома», «дома»... А я молчу. Я и сам не знаю, где я — дома. И пока что я не хочу уезжать с Ледяной. Я чувствую, что очень многого не добрал. Мне мало.
— Географ, глянь, — зовет меня Борман. — Это не Хромой камень?
Я откидываю тент. Изгиб реки в дождевой дымке, и над ним — кривоплечая скала с черным гребнем леса поверху. Это Хромой.
— Причаливаем, — говорю всем я. — Пойдем на разведку порога.
Мы причаливаем, выбираемся на берег и тотчас сбиваемся в кучу. Сообразительный Чебыкин волочит тент и накрывает им сразу всех.
— Надо ведь катамаран привязать, — вздыхает Борман.
— Ну и шуруй, ты же капитан, — злорадно отвечает Градусов.
— А пойдемте все вместе, — предлагает Чебыкин, жалея Бормана.
Эта мысль неожиданно всем нравится. Мелкими шажками, пиная друг друга по пяткам, мы ползем за чалкой и привязываем ее к кусту.
— Зыко получается! — хохочет Чебыкин.
Дальше мы просто стоим, пережидая дождь. Но стоять скучно. Демон пробует закурить, но на него орут. Тютин наклоняется почесать колено и получает пинок под зад от Градусова.
— Слушайте, давайте, чтоб не мерзнуть, водки замахнем? — предлагает Борман.
— Ну, ща! — подаю голос я. — Чтобы в пороге вы пьяные на дно пошли?
— В кои-то веки Географ против выпивки, — хмыкает Овечкин.
— Оскотинился, — соглашаюсь я. — Бивень. Лучше пойдемте на разведку порога, если замерзли. Не ливень все же, так — морось.
— А как сейчас слоником идти можно? — спрашивает Люська.
— А почему бы и нет? Тут дорога вдоль берега.
Мы разворачиваемся все в одну сторону и идем по поляне, как рыцарский конь в доспехах. Проселок сам выворачивается под ноги. Наш слоник, хихикая и взвизгивая, растягиваясь и сжимаясь, медленно выбирается из перелеска и ползет вдоль реки. Вскоре Ледяная под склоном начинает шуметь. Это внизу потянулась шивера, предваряющая Долгановский порог. Мы ползем дальше.
— Стой, — говорю я. — Зырьте, вон табличка.
Отцы приподнимают тент козырьком. Блестящая никелированная табличка привинчена к скальной стенке над дорогой.
— «В этом пороге 7 мая 1967 года трагически погиб турист Сергей Долганов. 1948—1967 гг.», — читает Чебыкин.
— Потому порог и называется Долгановский? — спрашивает Люська.
— Да. Географ же тыщу раз объяснял, — говорит Борман.
— Дак чо, — неизменно отвечает Люська.
— Вы шары-то в другую сторону поворачивайте, — ворчит Борман. — А то вторую табличку вешать придется...
Мы идем дальше вдоль Долгана. Шивера расслаивает течение на несколько неравных потоков. Потоки словно бы заворачиваются спиралью друг вокруг друга, обрастая пеной, и в сплошном мыле начинается порог. В густом кипении торчат каменные зубцы. То взблескивают, то пропадают желтоватые струи — как спины дельфинов. Взлетают фонтаны брызг. Стоит гул и рокот. Я отчетливо вижу три рельефных пенных барьера — три каскада Долгана. Да, Долган — это штука серьезная. Не то что водяной ухаб под Семичеловечьей, разломивший наш катамаран.
Я вылезаю из-под тента и пальцем указываю, где что, вычленяя из хаотичной круговерти основные звенья. Вот кинжальный слив, вот бочка, вот бульник, вот косые валы, вот воронка, вот обливной валун, вот плита-полоз, вот противоток, вот улово, вот заверть, вот подрезная струя, вот суводь, вот слив ромашкой, а вот подковой. Я напрягаю глотку, перекрикивая шум порога. Я объясняю, как нам надо проходить Долган. Я объясняю каждому, кому как надо работать. Я называю ориентиры. Я даже признаюсь, что командирское место — мое и мне с Борманом придется поменяться.
Борман слушает меня, морща лоб и шевеля губами. Градусов засовывает руки в карманы, косится на реку, презрительно щурится и сплевывает. Чебыкин млеет, слыша грозные и красивые слова: «пульсирующий вал», «отбойная струя», «телемарк», «оверкиль». Физиономия Тютина выражает предсмертную тоску. Демон, как всегда, безмятежен. Овечкин хмур и недоволен, как перед скучной и тяжелой работой. Люська таращится на меня в ужасе, открыв рот. Маша глядит чуть виновато, а может, даже грустно: стоит ли напрягать разум и силы, если перед нами — стихия, не знающая закона? Все эти пышные термины — та же пена на поверхности судьбы.
Мы добираемся до конца Долгана и оглядываем порог снизу вверх, задом наперед. И отсюда видно, что весь порог — это длинные, стертые, выщербленные ступени речного русла, по которым несется и скачет бешеная, слепая вода.
— Виктор Сергеевич, я не уверен в себе, — говорит Борман. — Может, вы все-таки сами поведете катамаран?
— Нет, — отвечаю я. — Поведешь ты. Лидер — это тот, кто лидер до конца. Будь уверен в себе. И если припечет, то не вспоминай, чему тебя учили. Лучше последовательно делай то, что считаешь верным. А вы, отцы, подчиняйтесь капитану беспрекословно. Это, между прочим, иногда труднее, чем командовать самому.
Отцы долго и задумчиво глядят на порог.