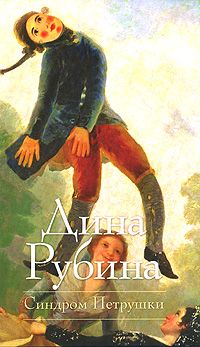– Не выйдет. А знаешь – почему? Вы все еще живете на четвертом этаже. И все еще высоко отсюда лететь.
Он отшатнулся; мы одновременно вскочили на ноги. Он упредил меня и наотмашь ударил по лицу, не просчитав моей реакции, – был уверен, что не отвечу. Я же молча на него кинулся…
В этот момент в комнате появилась Лиза, а уже падали какие-то вазы и пепельницы, переворачивались стулья, сорвалась портьера, к которой он отлетел и за которую ухватился, пытаясь удержаться на ногах.
Завизжала Лиза: «Мартын-и-и-ин!!!» – с таким ужасом, что в моих ушах возникла потрясающая тишина, в которой не я, а Ромка бил точно и сильно, и лишь когда Вильковский свалился меж двух перевернутых кресел, а Лиза повисла на мне… я увидел, что избиваю старика. К тому же это было гнусное зрелище – его мягкое волосатое брюхо в распахнутом халате, под растерзанной рубашкой… Но главное – моя бедная девочка, с этим пепельным бескровным лицом… Она трясла мокрой головой и не могла выговорить ни слова. И я ничего не мог, не имел права ей объяснить. У меня текло по губам и подбородку, я утирал это ладонями, и она с ужасом смотрела на мои окровавленные руки.
– Лиза, – проговорил я, – ты знаешь, что я тебя люблю?
Мне, Борька, эти слова всегда казались такими маленькими, тусклыми киношными словцами. Разве могли они как-то выразить, хоть как-то передать… Наверное, поэтому я никогда их не произносил, чтобы не повторять, не уподобляться, не становиться в миллионный ряд упоминающих всуе. Но в тот момент я вдруг понял, что мои разбитые губы вообще впервые их произносят:
– Ты знаешь, что я люблю тебя?
Она продолжала как-то жалко трясти головой, переводя затравленный взгляд с меня на отца, который двигался там, за моей спиной, пыхтел, что-то отодвигая, и был мне уже совсем не страшен. Лиза – вот кого надо было победить, завоевать, чтобы увести отсюда. Но мне было не до песен трубадуров.
– Всегда, всю жизнь, до смерти… – угрюмо проговорил я в стиле бухгалтерского учета, стараясь поймать ее бегающий взгляд, остановить его на себе. Но она тряслась, икала и была в совершенной прострации. Тогда я крепко взял ее лицо в ладони, испачкав своей кровью ее щеки, тряхнул и тихо проговорил:
– Пойдем… Пойдем, моя любимая…
– Стоять!
Я обернулся и вначале даже замялся. Я чуть не рассмеялся – так это было нелепо: Вильковский, по-прежнему в распахнутом халате, тряся дряблым брюхом, стоял в дверях своей комнаты и на что-то указывал мне рукой.
В следующую секунду я понял, что ни на что он не указывает, а просто держит в руке пистолет. И это было так бездарно, так пошло… как в халтурном боевике. Еще два-три мгновения я не врубался в ситуацию, хотя лицо у него было отчетливо страшным, и ясно было, что пистолет настоящий – отчего б ему, с его профессией и его знакомствами, не держать у себя пистолета, дело житейское – и что все, о чем он меня предупреждал, вполне осуществимо.
– Отойди от него! – приказал он дочери.
– Папа!!! – крикнула она, пятясь. – Папа… папа…
– Руки! – велел он мне. – Руки, падла кукольная!
И я поднял руки.
– Спиной!
Я повернулся. Передо мною была прихожая, обжитая за все эти годы до малейшей детали. Все так же стояла в углу бронзовая дева, держа в поднятых руках стеклянный шар-светильник. С подноса у фавна тяжелым оранжевым удавом свисало кашне Вильковского; в бронзовом стояке для зонтов откинулись в тесном хороводе два черных мужских и один вишневый Лизин зонтик. А в неплотно прикрытой мною входной двери виднелась электрическая щель – на расстоянии броска от меня.
Скосив глаза, я увидел Лизу, мерцавшую в двух шагах сбоку и позади. Она уже не плакала и ничего не говорила. Думаю, она впервые видела отца таким, и эта картина, и незнакомый его голос, и оружие в его руке – были для нее ужасным потрясением.
– А теперь… – сказал он, – пошел вон. Пся крев! И никогда, не дай боже! Если хочешь еще в куколки играть.
Я стоял с поднятыми руками – вполне привычная для кукольника поза, – мысленно рассчитывая расстояние от Лизы до меня. Она ведь была очень гибкой, с сильным профессиональным прыжком балерины.
– Лиза… – сказал я, не оборачиваясь, и пошевелил поднятыми пальцами, как в нашем с ней детском «номере».
Она с детства была заворожена моими руками: когда я появлялся, первым делом смотрела не в лицо мне, а в руки, – они всегда заключали в себе какой-то сюрприз, какой-то номер – расписанные рожицами пингпонговые шарики, или бой драчливых петухов, или батальную сцену двух рыцарей… Этих штук и приемчиков у меня было множество, я каждый раз придумывал что-нибудь новенькое. Мои руки были для нее в детстве величайшей тайной, которую она неустанно пыталась разгадать. Ты помнишь? Чтобы занять ее, достаточно было отдать ей руку, лучше обе, и она принималась плести из пальцев косы, составлять фигуры, играть ими, придумывать роли… Она как бы отделяла меня от моих же рук, и они становились ее безраздельной собственностью. А я нарочно расслаблял пальцы до абсолютной тряпичности, замирал, выжидал… И когда она, что-то щебеча, совершенно забыв обо мне, заигрывалась… я выкидывал какую-нибудь фигуру. И она вздрагивала и вскрикивала от восторга, дивясь на очередного оленя или змею.
Я пошевелил поднятыми пальцами и всем телом почувствовал, как она напряглась и качнулась ко мне.
– Пошел!!! – крикнул Вильковский. – Мразь, гнида, пошел, или я прикончу тебя!
У меня не было сомнений в том, что он выстрелит. У меня даже не было сомнений, что он метко стреляет. Я это знал: Лиза упоминала, что «папа любит тир». Выход был только один.
– Лиза! – приказал я негромко. – Але-оп!!!
В следующую секунду она уже сидела у меня на спине – умница, заложница, спасительница! – я ринулся вперед со своей ношей, шибанул дверь, сверзился с четвертого этажа и, вылетев из брамы, понесся по темной улице: конь, выносящий всадницу из горящего ада. Она вросла в мою спину, намертво окольцевав мой живот босыми ногами, и ее сердце громыхало о мое барабанным боем…
Так я мчал аж до Басиной квартиры. От меня пар валил; я ничуть бы не удивился, если б мое хриплое дыхание в конце концов извергло пламя. Во мне было тогда пятьдесят лошадиных сил. Я даже не мог спустить Лизу наземь – в прыжке с нее свалились тапки…
И ты не поверишь: едва я сгрузил ее на Басину двурогую кровать, как она отключилась, свернувшись в колечко, как древесная гусеница, что свалилась с ветки. Так бывает с детьми после сильного потрясения: они уходят в сон, ныряют в забытье, потому что не могут справиться с новой реальностью. И пока я двигал комод, баррикадируя входную дверь (я был уверен, что Вильковский не допустит Лизиного исчезновения, – заявит в милицию или спустит с цепи одному ему известных псов), пока задергивал на окнах плотные портьеры, – Лиза уже мертвецки спала…
Между прочим, я до сих пор не понимаю, как нам сошло с рук наше бегство. Понял ли Вильковский, что после той сцены Лиза уже не вернется, или, наоборот, посчитал, что, промаявшись со мной месяц-другой, она в конце концов вернется домой – виноватая и послушная? Или – что вполне возможно, если вспомнить его кошмарный вид после нашей драки, – ему стало плохо, и было уже не до погони? А вдруг, думаю я с надеждой, – вдруг в нем еще что-то теплилось мужское, настоящее, и он просто принял поражение, как подобает мужчине?
Знаешь, я и сейчас иногда об этом размышляю… Ведь много лет спустя выяснилось, что Вильковский (однажды в Киеве к нам после спектакля подошел растроганный старенький генерал, партнер Тадеуша Игнацевича по карточному делу; рассыпался в комплиментах, напросился вечерком на чай) – так вот, Вильковский, по его полунамекам, мог бы нас достать не то что из другого города – из другой галактики.
Он не агентом был, как это считали многие; он там служил, и даже чин имел то ли майора, то ли подполковника. Впрочем, боюсь ошибиться, я никогда ничего в этих делах не понимал.
Но то, что он всегда знал, где мы, видно по тому, как мгновенно до нас дозвонилась его сожительница, та деваха, что обслуживала его в последние годы и которой достались и квартира, и все, что в ней было: все эти девы с шарами, бронзовые фавны, шахматные столики…
Но все это было потом. А в ту ночь я метался в поисках какой-нибудь для Лизы обувки и не находил – ты же помнишь Басины ножищи…
И до рассвета, до первого поезда, я, сидя в ванной, за ночь сшил Лизе из растоптанных Басиных сапог римские сандалии. Лиза спала и не чувствовала, как я подходил, прикладывал ладонь к ее миниатюрной ступне, измеряя длину и высоту подъема, а потом вырезал из старых сапог длинные кожаные ленты и обметывал их. Я исколол все руки; счастье, что Бася, которая ничего не выбрасывала, хранила ящик с инструментами деда, среди которых нашелся и острый сапожный нож, и шило, и толстые иглы, и даже мелкие обойные гвоздики, которыми я приконопатил ремешки к подошве.