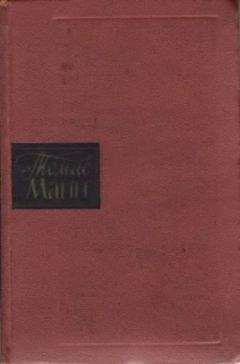Дедушки уже не было в живых. Он умер в прошлом году.
Дедушка часто говорил, что у человека одна надежда: уйдя из жизни, остаться в сердцах близких людей. А у меня с его смертью в сердце образовалась какая-то брешь, пустота какая-то. Я ее чувствовал почти физически. Конечно, я о нем думал. Часто думал, чуть ли не ежедневно. Сидя в Нукусе и вспоминая наш аул, наш дом, я не мог их представить без дедушки, и порой мне начинало казаться, что он будто бы и не умер. Теперь же, вернувшись домой, я не только умом понял, не только воочию убедился, не только душой почувствовал, по буквально каждой клеточкой тела ощутил, что дедушки нет. И в тот момент, когда я начал читать этот рассказ, мне остро не хватало его присутствия, его заинтересованности, его веры в меня. Лишившись их, я, кажется, и сам в себя стал верить меньше.
Отец с матерью слушали меня внимательно, но как-то напряженно слушали, с усилием, с натугой. Повествование не захватывало их.
Лишь только я кончил читать, мать, как всегда, решительно начала говорить первой:
— Кажется, чего-то не хватает!
— Да, да, — поддержал отец, — чувствуется, недостает чего-то.
Такая оценка меня не обрадовала, само собой, но и не очень огорчила. Я тоже чувствовал, что рассказу чего-то недостает. Но чего именно? Ответа на этот вопрос ждать от них, людей далеких от литературы, мне не приходилось конечно же. Начал мозговать сам. Но вот к вечеру, когда я уже собирался обратно в Нукус, мать вдруг сказала:
— Знаешь, Сере, в этом рассказе нет твоей тоски по людям, по земле.
Замечание показалось мне странным. Во-первых, мой рассказ был совсем не об этом, и «тоска», как говорится, не входила в авторский замысел. А во-вторых, тосковать можно о чем-то вдалеке, я же не покинул ни людей, ни земли, на которой родился.
Заметив, что я не понимаю, о чем она толкует, мать добавила:
— Я каждое утро как проснусь, так и чувствую, что стосковалась по детям, по людям, по чистому воздуху, по нашим полям.
— Правильно, — поддержал отец, — За ночь так соскучишься, что поутру хочется каждой тыкве на огороде «салам» сказать.
С таким вот напутствием и отправился я в Нукус и все сорок километров, все полтора часа в битком набитом автобусе думал, что значит «тоска» в литературе и почему ее не хватает в моем рассказе.
В Нукусе встретил родственника Кутлымурата Уразова. Этот человек всегда отличался точностью логического суждения, и вся родня привыкла ценить его советы. Он — юрист. И все наши обращались к нему либо «юрист-кайнага» («старший брат юрист»), либо «юрист-ата» («дедушка-юрист»). Я, конечно, тоже решил воспользоваться случаем и упросил его выслушать мой рассказ.
Он согласился. А слушать Уразов умел — это у него профессиональное. Сдержан, сосредоточен, по глазам видно, что пытается вникнуть в суть, не пропустить ни единого слова. Читать такому слушателю — одно удовольствие, и я все время краешком глаза посматривал за ним.
Сперва лицо его было смягчено легкой приятной улыбкой. Затем оно стало строже и грустнее. Он несколько раз потрогал пальцем две крошечные родинки на щеке. Я догадался, что рассказ ему не но душе.
Рекомендации «дедушки-юриста».
— Мы, юристы, не только следствие ведем, мы всегда стараемся установить причинно-следственные связи. То есть пытаемся найти ту побудительную причину, следствием которой стал тот или иной поступок, тот или иной проступок. В твоем рассказе этого нет. Все происходит само по себе и ничем не обусловлено. Каждый персонаж живет изолированно и никого вокруг себя не замечает. Он ни с кем на свете не связан. Он с другими людьми только сталкивается. Все случайно, все произвольно. Но ты ведь изучал марксистскую диалектику и должен знать, что в этом мире все взаимосвязано, взаимозависимо. Постороннему человеку в том происшествии, которое ты описал, действительно многое может казаться странным и необъяснимым. Но ты же не посторонний. Ты автор. Автор должен знать и понимать, о чем он пишет. Пока что у этого рассказа нет автора…
— …Писатель лучше кого бы то ни было должен понимать законы жизни и природы, потому что если все, что он описывает, не закономерно, то никто и не поверит такому писателю… ди
— …Да, «закономерность», мера законности. А измеряется она отношением к окружающим людям.
— …Посмотри вокруг: солнце светит, ветер дует, шелестит листва на деревьях. Все это на первый взгляд кажется обыкновенным, и некоторым хочется чего-то необыкновенного. Но настоящий писатель тем и интересен, что он судит не на «первый взгляд». Он умеет вдумчиво присматриваться, прислушиваться к миру, умеет находить интересное в самом обычном, обыденном. Но, повторяю, вдумчиво. А для этого нужна настоящая человеческая мудрость…
— …Ученому достаточно быть умным, писателю же необходима мудрость…
— …В литературе обязательна правда. Но правда не бывает беспристрастной. Она всегда для одних — смертельный яд, для других — целебное лекарство. И если ты своей книгой или своим рассказом не стремишься отравить жизнь врагам и помочь друзьям, то лучше брось литературу…
Коше-бий рассуждал: «Если к надлежащему сроку времени не полить поле, то в соответствующий период не получишь подобающего урожая».
Дедушка поучал: «На необъезженном коне на скачки не выходят».
За всю спою жизнь я не сочинил ни единого стоящего стихотворения, а упреков, назиданий, поучений и замечаний выслушал и вычитал уйму. За всю жизнь написал всего лишь один рассказ, и тот подвергся разнообразной и разносторонней критике родственников. Кто ж я после этого, как не поле еще не политое, как не скакун еще не объезженный? А раз так, надо быстренько обуздываться и насыщаться.
И стал я впитывать все, что мог узнать не только о прозе, но и о прозаиках. И кинулся галопом по литературоведению и жизнеописаниям великих писателей в надежде выбрать для себя необходимый пример.
Однако то, что узнал, меня не обрадовало. Перво-наперво вычитал фразу: «Искусство требует жертв».
Ничего себе заявленьице! Кому ж оно может понравиться? Ведь это так надо понимать, что жертв искусство требует не от читателя, а от автора. Так оно и выходило.
Великий Гёте уже в молодости был признан и прославлен, достиг чинов и почестей, но сам же под старость сетовал, что постоянное служение литературе лишило его счастья полноценной жизни.
Эдгар По, блестящий, виртуозный, фантастичный Эдгар По, умер бездомным.
Чернышевский привязан к позорному столбу и выслан в Сибирь.
Флобер обвинен в безнравственности и преследовался прокуратурой Фракции.
Но даже те писатели, которые вроде бы избежали лишений и гонений, сами себя загоняли до полного истощения, сами себя лишали так называемых «малых радостей жизни».
«Я ворвался в литературу метеором и уйду из нее молнией», — говорил Мопассан. И точно, десять лет работы — сплошная вспышка: десять сборников стихотворений, шесть романов, множество рассказов, три сборника очерков, бессчетное число газетных статей.
Лев Толстой, сам гениальный Толстой переписывал рассказ «Сон» 29 раз, а эпопею «Война и мир»- 15 раз.
При такой напряженной работе где ж брать время для отдыха, для радостей жизни?
Я решил узнать кое-что о «секретах ремесла», о том, как можно облегчить тяжелый писательский труд. И вот вроде бы узнал, что Чехов повсюду носил с собой записную книжку и отмечал в ней все, что казалось ему интересным, а потом использовал свои записи во время работы. Что ж, очень удобно. Но тут же узнаю, что Бунин вообще не признавал никаких блокнотов, полагая, что память сама удержит нужное, а если что забудется — значит, это и не было важным. Опять вроде бы верно, резонно. Но пример-то с кого брать? С тех ли прозаиков, которые наперед составляют планы романов, или, скажем, с Шолохова, который первоначально намеревался написать всего одну книгу «Тихий Дон», а эпопея разрослась до четырех томов?
Притча, рассказанная моей матерью. У одного многодетного отца подросли сыновья. Вывел он их на перекресток дорог и говорит:
— Выбирайте каждый себе путь.
Оглянулись сыновья, подумали и пошли кто куда. А один сын сел на обочину и сидит. Ты что, сынок? — спрашивает отец.
— Да вот, — говорит, — не знаю, по какой дороге идти. Ни одна не манит.
— Если ни одна не манит, то тогда тори свою трону, — сказал отец и пошел к себе домой.
Случай, рассказанный коше-бием. Во времена пребывания в детском возрасте в состоянии соседства с нами находилась одна семья, в которой был сын, имевший телосложение очень тощей конфигурации по причине излишней капризности. Он отрекался от еды, ссылаясь на то, что она недостаточно вкусна для него.
И однажды мать тощего сына обратилась к моей матери с просьбой одолжить меня на время обеда для воспитания наглядным примером. Моя мать выразила свое согласие, и вот меня привели в помещение соседнего дома и усадили за дастархан.