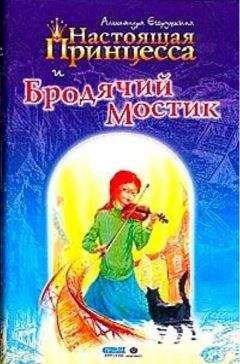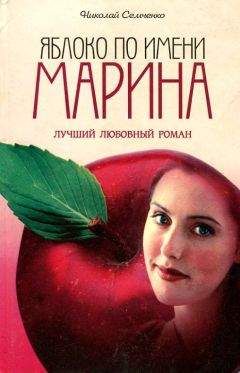Разомкнутая линия движения демонстрируется уже в самом начале, в первом же абзаце, почти как на графике: поезд идет прямо, по железной колее на север, а сквозь стекло видны светящиеся точки фонарей побочных платформ, каждая из которых — потенциальное ответвление дороги и сюжета. Когда их огни исчезают в сплошной темноте, отводящей в сторону станцией оказывается раскрытая на закладке книга, которую читающий путешественник закрывает на остановках, чтоб снова к ней вернуться по возобновлении движения. От букв его взгляд может отвлечься в окно, где новые огни, бегущие люди или дорожка за перроном обозначают еще один возможный приток, слой жизни, как любая часть прочитанной фразы может открыть еще один слой памяти.
Книга, которую держит в руках автор-рассказчик, — дневник Анны Григорьевны. Старое издание, позаимствованное у нелюбимого близкого человека, почти рассыпавшееся на страницы, а потом переплетенное, теперь читается под стук колес поезда — физическую историю книги можно принять за схему или формулу романа. Рулетка, карусель и паутина, три постоянных темы в истории четы Достоевских, тоже соответствуют алгоритму общего сюжета: действие круговое и монотонное, в любом смысле слова захватывающее, а результат каждого повторения приносит новый смысл и укрепляет силу захвата.
Вязкий ритм извилистых предложений обозначен тире, соединяющими отдельные фрагменты, в зависимости от длины которых темп замедляется или становится жестче. Структура текста физиологически вовлекает в процесс ритмического продленного чтения, как тела реагируют на вибрации и организованные ходы электронной музыки. Иллюстрацией к такому способу письма может быть диджейский сет: человек определенным образом, одновременно или последовательно, соединяет записи уже готовых произведений, и конечный результат зависит не столько от исходных тем, сколько от воли и слуха того, кто их перемешивает как элементы нового мира. Таким же образом цитаты или пересказ источника здесь — не составные части коллажа, а ноты, позволяющие преодолеть исходную литературность новой литературой. Технологическое, якобы “искусственное” искусство в случае настоящего мастерства не омертвляет, а возвращает жизнь, делает вторичное (готовые сэмплированные звуки или старые книжные темы) первичным, при этом отказывается от бесплодности еще одной интерпретации. Потому что живая культура — это алфавит или путешествие.
Ведь изначальный материал — “Дневник” АГ, Достоевский и антисемитизм, поезд, Ленинград, еврейская семья — банален, ничего неожиданного в этих темах не откроется. Старые мелодии, заведенные в сотый раз без изменений, тире и стук колес как ритмическая подкладка. Автор мастерски жонглирует этими пластинками, вплетает одну мелодию в другую, меняет ритм, и новый сюжет новой книги возникает как дыхание между слоями склеившихся страниц.
Эта открытая система оказывается одновременно очень жестко структурированной, закрытой и управляемой, скрепленной разнообразными рифмами. (Так в финальной сцене смерти появляется отрывок из начала, рассказанный чуть-чуть переставленными словами, который отличается от первого как два созвучных слова, и это повторение складывает историю.) Текст превосходит собственный генезис, как по-настоящему привлекательный человек предъявляет себя миру помимо биографий мамы и папы. В данном случае мама и папа — Достоевский и еврейский вопрос. Они — физиологический раствор, на котором выращены слова уже совсем другой природы.
Повторяющийся фрагмент или завитушка общего орнамента — заблуждение и бесплодное действие на основе заблуждения. Ложная идея становится синонимом собственно идеи. Идея (хотя бы искомая “система” выигрыша в рулетку) — то, что захватывает и морочит, увлекая в круги очередной спирали. Так “Федя” делает ставки, так он ругается с хозяйкой или Тургеневым, так ищут якобы запрятанный служанкой шиньон; так же ложно истолковываются почти все поступки и действия, собственные и окружающих. Ошибки тащат героев за собой и дают счастье чистого увлечения и освобождения независимо от истины — просто падать и падать, кругами, ритмически, знакомо и бесплодно, как танцевать.
Все действия в этом сюжете бесплодны, каждый шаг проваливается. АГ напрасно беременна — ребенок умрет; ее брат напрасно присылает деньги — они будут потеряны; все расчеты приводят к проигрышу, и доктора напрасно, повторяя друг друга, считают пульс умирающего. Заграничное путешествие тоже верх бессмыслицы и заблуждений, все возвращается в исходную точку. Эти действия и не призваны принести плоды, они только точки для возможного продолжения слов, узлы движущейся живой сети. Главный плод всех немецких мытарств — видения будущих сюжетов, открывшаяся возможность продолжения. Если же действие замыкается, человека настигает кошмар, припадок и смерть.
Для автора этот извилистый мир ясен и скреплен рифмами, а для персонажей он шаткий, путает их и вынуждает искать вспомогательные средства удержаться на вертящихся поверхностях. АГ мерещится мачта, за которую она ухватилась, чтоб устоять посреди карусели событий. Сам рассказчик несколько раз поминает указку, распутывающую изобары сложного графика или петли маршрута экскурсии. Все напрасно: мачту не удержать (эта твердая мачта, вместе с никак не дающейся “Феде” перевернутой вершиной горы и по определению равнобедренного треугольника, кажется несколько комичной), маршруты путаются и заканчиваются ссорой, падением, растратой или возвращением, больше похожим на бегство.
Сама идея “идеи”, системы дважды выворачивается сначала наизнанку, а потом на лицо в больном мозгу игрока и почти что становится истиной, во всяком случае, наполовину приносит успех: не сдаться ли на милость ошибки, чтоб тем самым ее избежать?
Линейная, прямая и простая жизнь настолько очевидно невозможна в этой структуре, что Пушкин — он, как известно, солнце, то есть точка, цельность и антитеза множественным извивам Достоевского, — тоже будет закручен и свит. На картине, которая видится рассказчику, он должен быть обвит кольцами щупальцев его невесты-смерти.
Смерть — единственный плод и результат. “Федя” успокаивается и побеждает хаос своих призраков, увидев тленное тело Христа на картине; теперь он может отвлечься от навязчивого воспоминания об экзекуции, от взгляда своего палача (сладость погружения в этот провал, в теплый омут унижения, грозит и соблазняет полным развоплощением), не сбиваясь любить жену и писать свои книги. Теперь поезд может приехать на Московский вокзал. Ленинград 70-х ужасен и убедителен, как галлюцинация: вечная северная ночь, мороз, черный город с уходящими вдаль цепочками фонарей, плохо одетые пьяные люди, холодная вода в коммунальной ванной. Смерть здесь привычная, почти бытовая вещь, люди только и говорят что о блокаде, о том, как умирал муж хозяйки дома, и музей Достоевского — это дом его смерти, где он не столько жил, сколько умер. Сцена его смерти — центр ленинградского эпизода.
Но смерть тоже не является итогом или разрешением, она не кончается. Блокадные замерзшие трупы все еще мерещатся по обочинам темных улиц, воспоминание о кончине старого мужа родственницы рассказчика в объятиях жены — утешительный самообман, и умирающий Достоевский в видении автора находит совсем не христианский конец — его поглощает бездонный мрак. Автор даже не останавливается рядом с этой последней, самой глубокой, пропастью, собранной в точку, только определяет ее необратимость; таким образом, Достоевский принимает иудейскую смерть. Визионер уходит восвояси от перепутанных улиц — его якобы документально выверенный маршрут от Невского до Восстания совершенно искажен — в жутковатый привычный уют доживающих век старых женщин.
Смерть — это профессиональный и особенный интерес автора. Для врача-патологоанатома она может быть привычнее теплой жизни. (Естественно-научный профессионализм в его случае ни в коей мере не означает литературного любительства: высокий литературный класс произведения и дар настоящего писателя вне сомнений.) Он дивится живой красной крови в жилках под молодой розовой кожей, хочет чувствовать прикосновения мягких волос. Это чуть ли не единственное чувственное отступление, когда интонация сбивается и становится почти страстной, теплое пятно среди прозрачного холода этой музыки — в отличие от вполне мертвенных и стерильных плавательных метафор супружеской любви и всех больных нежностей “Феди” и “Ани”.
Темперамент автора — и того, который пишет, и того, который ходит по улицам, — не очень-то подходит для выяснения достоевско-еврейских отношений. Весь истерический энтузиазм отдан герою “Феде”, а безымянный наблюдатель-манипулятор спокоен и трезв. Пристрастия в его словах нет, даже когда формально он обозначает обиду и недоумение: ну почему такой чуткий человеколюбец и т. д.