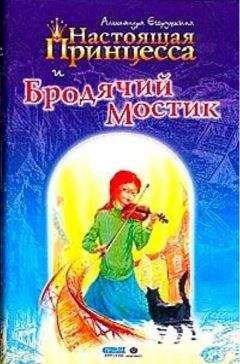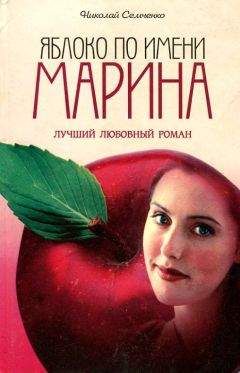Темперамент автора — и того, который пишет, и того, который ходит по улицам, — не очень-то подходит для выяснения достоевско-еврейских отношений. Весь истерический энтузиазм отдан герою “Феде”, а безымянный наблюдатель-манипулятор спокоен и трезв. Пристрастия в его словах нет, даже когда формально он обозначает обиду и недоумение: ну почему такой чуткий человеколюбец и т. д.
Горьковатые, но прохладные ламентации находят неожиданное разрешение. Автор расправляется с объектом сознательно ли, неизвестно, но неожиданно: несчастные “Федя” и “Аня”, ссорящиеся и любящие, преданные друг другу, пересчитывающие гроши, живущие в оппозиции ко всему миру, с путными и непутевыми родственниками, подозревающие всех во всем, никому не доверяющие, замкнутые в свой тесный телесный мир уязвленности, совокуплений, бедности, надежд и болезни, — больше всего похожи на клишированную еврейскую чету. Их совершенно розановский влажный и теплый, интимнейший жалкий мир гораздо выразительнее слишком прямого соединения Достоевского и Исая Фомича во сне рассказчика.
Надо предоставить фантомному противнику свой собственный язык и свою родную территорию, где война невозможна. Возможна любовь.
Почему евреи любят Достоевского, в то время как он их не любил, — вопрос риторический. Возможно, первичный замысел выяснения отношений тоже есть заблуждение, двигающая ложная идея — печка, от которой автор, а за ним читатель начинают плясать под эту переусложненную и одновременно ясную сильнодействующую музыку. “Идея” и ее вскрытие понадобились то ли для того, чтоб оттолкнуться от изжитых литературных представлений, то ли чтоб обосновать выбор такого способа письма. Этот способ в результате превзошел архаическую тему: действие письма и живое движение текста делают книгу настоящей и до сих пор новой. Ложная идея, как сгоревшее топливо, приводит к успеху — восполнению недостающей вершины — романа как такового.
Все немногочисленные собственно “новые”, то есть нелитературные, сообщения и образы в романе особенно заметны, в них точки боли автора: теплота уходящей жизни и граница прямой телесной смерти, удостоверяющей жизнь.
Это ручеек крови, стекающий из угла рта умирающего Достоевского: АГ безуспешно вытирает его полотенцем, но кровь кажется неиссякаемой.
Это еще одна точка возможного ответвления сюжета, мимо которой автор не может пройти, но только помечает ее как особенно и глухо манящую, — приоткрытая дверь и угол пуховой постели девушки-соседки в теткиной квартире. Неизвестно даже, там ли она, уже спит, уставшая, или еще не пришла; но пропустить этот пунктум невозможно ни рассказчику, ни читателю.
Нина ВОЛКОВА.
С.-Петербург.
Доктор Цыпкин и доктор Гинденбург
Действие романа Леонида Цыпкина “Лето в Бадене” разворачивается в двух плоскостях, переплетаясь и расплетаясь на уровне фразы.
Время первого сюжета — конец 70-х годов XX века. Автор-рассказчик едет дневным поездом из Москвы в Ленинград, в дороге читает “Дневник” Анны Григорьевны Достоевской, выходит на Московском вокзале, пешком отправляется к своей знакомой Гильде Яковлевне (Восстания, дом 21, путь недалекий), ужинает, читает Достоевского, на другой день, проснувшись и наговорившись с Гильдой Яковлевной (Гилей, как он ее называет), отправляется на прогулку — по хрустящему снегу, по вечернему городу от дома на углу Восстания и Жуковского до музея Достоевского примерно 20 — 25 минут хода. В другую плоскость сюжета, как бы в другой сюжет, мы попадаем, когда рассказчик открывает в поезде “Дневник” Анны Григорьевны: 1867 год, путешествие Достоевского с молодой женой по Европе; небольшими эпизодами возникает также поездка Достоевских в Старую Руссу и январь 1881 года, предсмертные часы Достоевского.
Но есть в книге Цыпкина и еще один сюжет, я бы назвал его внутренним сюжетом, если бы Цыпкин с неожиданной и какой-то экзальтированной откровенностью не обнажил его буквально на первых страницах “Лета в Бадене”.
“В гостинице им то и дело попадались на лестнице жидочки, навязывающие свои услуги и даже бежавшие за пролеткой, в которой ехали Анна Григорьевна и Федор Михайлович, чтобы продать им янтарные мундштуки, пока те не прогнали их, а вечером на старых узких улицах можно было увидеть тех же жидочков с пейсами, которые прогуливали своих жидовочек”. “Впрочем, жидочков Анна Григорьевна заприметила еще раньше — во время своего первого прихода к Феде в дом Олонкина, где он писал „Преступление и наказание”, и дом этот, по позднейшему свидетельству Анны Григорьевны, сразу же ей напомнил дом, в котором жил Раскольников, а жидочки...”
Вот, значит, соображает читатель, о чем пойдет речь — Достоевский и евреи.
Но Цыпкин немедленно переключает регистр с академического, так сказать, на максимально личный — не евреи вообще, а именно — я.
“Так отчего же я с таким трепетом (я не боюсь этого слова) носился с „Дневником” по всей Москве”; “отчего ехал сейчас в Петербург — да, не в Ленинград, а в Петербург, по улицам которого ходил этот коротконогий, невысокий”; “отчего читал эту книгу сейчас, в вагоне, под неверным, мерцающим светом ламп”?
“Мне казалось до неправдоподобия странным, что человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных, горячо и даже почти исступленно проповедующий право на существование каждой земной твари и поющий восторженный гимн каждому листочку и каждой травинке, — что человек этот не нашел ни одного слова в защиту или оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, — неужели он был столь слеп? или, может быть, ослеплен ненавистью? — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов, — и к этому „племени” принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы”.
“Почему меня так страшно привлекала и манила жизнь этого человека, презиравшего меня („заведомо”, „зазнамо”, как он любил выражаться) и мне подобных?”
Почему? Такое состояние называется, если я не ошибаюсь, “фиксацией на травме”, и Леонид Цыпкин обрисовал его исчерпывающе точно. Но Цыпкин боится оставить даже малейшую возможность разночтений, и отчаянным жестом, уже не скрывая ничего, он выбрасывает прямо на стол заветный магический ключик, подобранный им в мастерской доктора Фрейда: “Не были ли мои „давешние” (как он бы сказал) ночные видения <...> в которых он [Достоевский] обращался в Исая Фомича, лишь жалкой попыткой моего подсознания „узаконить” мою страсть?”
Вот внутренний сюжет, источник энергии, пружина повествования. Это он, хочет сказать Цыпкин, “коротконогий, невысокий”, принес в мир слова, которые запечатлелись в моем сознании, помогли мне осознать себя, выработать свою нравственную систему; он, продолжает Цыпкин, человек “с лицом церковного сторожа или отставного солдата”, предмет моей страсти и почти обожествления, словно отец мне. Но этот отец — вот что хочет сказать Леонид Цыпкин — не признает родства.
В мерцающей логике “Лета в Бадене” возникает один любопытный боковой сюжетец, несомненно приложенный Цыпкиным в качестве инструкции к той универсальной отмычке, которую мы только что вертели в руках.
Сюжетец такой. У нас в доме, вспоминает Цыпкин, бывал человек, преподаватель консерватории, третьесортный музыкант, но я, говорит Цыпкин, смотрел на него “почти как на бога” после того, как он однажды, “сев за наше обыденное, стоящее в столовой и слегка расстроенное пианино, начал играть вальс Шопена — седьмой вальс, тот, который я тщетно пытался разучить <...> какой-то сладкий комок подступил к моему горлу, и на глазах моих, наверное, даже навернулись слезы”. Этот небольшого роста человек, умерший, “наверное, от своего излишнего сластолюбия <...> часто менял жен, причем все они были русскими, а сам он, естественно, был евреем”; последней его женой была простая женщина, пухлая, “с круглым лицом, о которой у нас в доме говорили, что она похожа на кухарку или домработницу, — ее даже, кажется, не принимали у нас в доме”.
Однако этот сюжетец появляется в романе не благодаря воспоминанию о прекрасной музыке или о “сластолюбии” (словечко-то откуда?), а благодаря фантазии, воображаемой картинке: Ставрогин, шагающий уверенной, твердой походкой, а рядом с ним мелко семенящий, забегающий сбоку, заглядывающий в глаза, угодливый, изворотливый Петр Степанович Верховенский, “странно напоминающий, — говорит Цыпкин, — одного моего знакомого, мы учились с ним в одном классе и даже почти дружили домами”. Знакомый этот — сын кухарки/домработницы и еврея-музыканта.