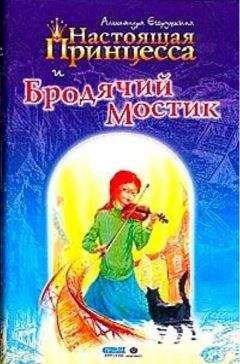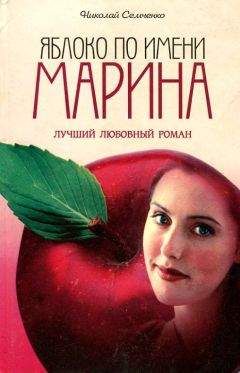Или вот Цыпкин, впившись взглядом в экран, переживает в кинотеатре “баталию между отцом и сыном” в пырьевских “Братьях Карамазовых”. “„Здорово он звезданул его!” — раздался сзади меня чей-то голос, — оторвавшись от экрана, я обернулся — сидевшие позади меня поочередно потягивали из бутылки, и бульканье это продолжалось до самого конца сеанса, и в разных концах зала, словно всплески застоявшейся воды, слышались то гиканье, то гогот...”
Ну и уж чтобы собрать все в один пучок, собственные дети Достоевского — Федя и Люба. Люба вела такой образ жизни, что “Анна Григорьевна, увидев однажды, как выносили из церкви девичий гробик, воскликнула даже: „Ах, зачем это не мою дочь выносят!”” Федя же “смахивал <...> на старательного, но туповатого гимназистика, с какой-то вырожденческой формой черепа, являвшего собой как бы злую карикатуру на череп своего отца”.
Вот каковы они, законные дети! Даже если им досталось что-то по наследству (как сыну кухарки и музыканта), они это наследство презирают. Им, с вырожденческим черепом, не нужна чудесная музыка, от которой у незаконных сладкий комок подступает к горлу и на глазах выступают слезы. Так и случилось, что именно незаконные дети стали “почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского” (Цыпкин приводит список из 17 еврейских фамилий). Они, незаконные дети, энтузиасты, сотрудники музея Достоевского, “молодые люди и женщины с интеллигентными лицами, невольно внушающими мысль об их еврейском происхождении”, и известный актер, читающий Достоевского, “кстати, тоже с еврейской фамилией”.
Видите, как все оказывается элементарно: разделите мир на тех, кто с еврейской фамилией, и остальных — и вы получите точную картину мира.
Ключик сделал полный оборот в замочной скважине, боюсь только, что, распахнув дверцу сейфа, мы обнаружим пустоту. Все содержание этого романа уместилось в нехитрую схему любви-ненависти к несправедливому отцу и соперничества за его наследство. И дело даже не в самой этой схеме, а в том, что за ней больше ничего не стоит. Помпезные многостраничные предложения, которыми написан роман, по существу, лишь маскируют отсутствие какого-нибудь мяса на костях заданной схемы, то есть, проще говоря, имитируют мысль. Сказать честно, об этом романе не стоило бы даже серьезно разговаривать, если бы не его судьба: начатый в 1977-м и законченный в 1980 году, роман этот сейчас впервые представлен русскому читателю в авторской редакции. Автор “Лета в Бадене”, врач по специальности, подавший в 1979-м документы на выезд и скончавшийся в 1982 году отказником, так и не увидел свой роман напечатанным.
Но если судьба этого романа заставляет нас говорить о нем, она никак не может и не должна влиять на оценку произведения, в котором автор своей рукой поставил последнюю точку.
“Дети с протянутыми руками, дрожащие от сырого петербургского тумана <…> особенно девочки, нищие, избитые или обесчещенные <...> эта Нелли <…> эта Неточка <...> эти девочки из лондонского (на сей раз не петербургского) тумана <...> протягивающие свои грязненькие ручки к прохожим, чтобы только их взяли <...> все эти девочки-подростки, эти „нимфетки” <...> не для того ли явились они на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного?”
Я сейчас не об этом — опять — выпаде в сторону самого Достоевского, я о другом. Вот предпоследнее предложение — сцена в конце романа: “И какая-то семья — родители плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, — шли мимо этой бывшей часовни или церкви — лица у них были белые, чухонские, — отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они все втроем неожиданно повалились в сугроб, — девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться, а когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, — девочка пошла впереди, словно поводырь или, может быть, просто стыдясь своих родителей...”
Текст абсолютно однозначный и по месту расположения — символический. Вот они, “истинно русские”, которых так хотел любить Достоевский, наследники “национального духа”, растлевающие ребенка, девочку — Нелли, Неточку, Матрешу...
А вот последнее предложение, финал “Лета в Бадене”:
“Несколько минут спустя я уже ехал на трамвае к Гилиному дому, а еще через полчаса мы уже снова беседовали с Гилей, сидя на бывшем Мозином диване, и она рассказывала мне про блокаду, про Мозю, про тридцать седьмой год, а за окнами лежала зимняя петербургская ночь, и, когда внизу на улице с грохотом проносились трамваи, весь дом вместе с Мозиной лампой вздрагивал, словно корабль, стоящий у причала”.
Там алкаши, барахтающиеся в сугробе, потерявшие человеческий облик и тянущие за собой ребенка, здесь — уют, человеческое тепло и память.
Пожалуй, вот именно это — противопоставление — кажется мне, еврею, самым неприятным и неприемлемым в романе Леонида Цыпкина.
Мне гораздо понятнее то, что пишет антисемит Достоевский в статье “Похороны „общечеловека””, которая в “Дневнике писателя” следует немедленно за статьей “Еврейский вопрос”.
Речь идет о докторе Гинденбурге, пятьдесят восемь лет помогавшем беднякам, лечившем, принимавшем роды, о протестанте, которого любили и о котором рассказывали истории и легенды и русские, и немцы, и евреи. Достоевский цитирует письмо, полученное из Минска от знакомой — еврейки — Софьи Лурье, и рассуждает о жизни и наследии этого доктора.
“Провожает его весь город, звучат колокола всех церквей, поют молитвы на всех языках. Пастор со слезами говорит свою речь над раскрытой могилой. Раввин стоит в стороне, ждет и, как кончил пастор, сменяет его и говорит свою речь и льет те же слезы. Да ведь в это мгновение почти разрешен хоть бы этот самый „еврейский вопрос”! Ведь пастор и раввин соединились в общей любви, ведь они почти обнялись над этой могилой в виду христиан и евреев.Что в том, что, разойдясь, каждый примется за старые предрассудки: капля точит камень, а вот эти-то „общие человеки” побеждают мир, соединяя его; предрассудки будут бледнеть с каждым единичным случаем и наконец вовсе исчезнут. <...> Все это очень просто, но мудрено кажется одно: именно убедиться в том, что без этих-то единиц никогда не соберется всего числа, сейчас все рассыплется, а вот эти-то все соединят. <...> И вовсе нечего ждать, пока все станут такими же хорошими, как они, или очень многие: нужно очень немного таких, чтобы спасти мир, до того они сильны. А если так, то как же не надеяться?”
Леонид Цыпкин (кстати, он, как и доктор Гинденбург, родом из Минска) сделал вид, что этих слов не существует. Или — не поверил Достоевскому.
Михаил ЛЕМХИН.
Сан-Франциско.
«Многих счастливей, многих печальней...»
“МНОГИХ СЧАСТЛИВЕЙ, МНОГИХ ПЕЧАЛЬНЕЙ…”
Вера Павлова. Вездесь. Стихи 2000 — 2002 гг. М., “Захаров”, 2002, 108 стр.
Стихи Веры Павловой обладают несомненным свойством притягивать к себе внимание. Последний ее сборник “Вездесь” — не размышления о чувствах, а живой сгусток ощущений и мыслей, почти не поддающихся называнию. Говоря своими единственными словами, Павлова помнит о том, что было сказано до нее. Конечно, присутствие Ахматовой и Цветаевой в русской поэзии, женщин, воплотивших в своем творчестве так глубоко и полно любовную тему, всегда заставляет сравнивать с ними каждую взявшую перо в руки, но сравнения эти, как правило, до того поверхностны и приблизительны, что хочется процитировать слова Дж. Фаулза: “Все женщины не такие, как все”. Вера Павлова, безусловно, не такая, как все, и не такая, как ее великие предшественницы. Она запечатлела в стихах еще не рассказанный облик женственности. Ее лирическая героиня в своем стремлении оставаться собой, прислушиваться к себе и воплощаться в слове нарушает границы и изменяет правила. Мир для нее не делится на “верх небесный” и “низ телесный”. Все существует и воспринимается как сложное, неразделимое единство, дающее ощущение полноты жизни. Ее подчеркнуто индивидуальная поэзия хотя и содержательно разнообразна, но очевидная, основная ее тема — любовь. Стихи Павловой о любви — это и стихи о жизни и смерти, о возрастных изменениях, о влиянии на человека хода времени.
Ее стихи всегда написаны от обнаженного “я”, которое не прячется за иронию, за тон объективности, не прикрывается ролями и масками. Вера Павлова вводит в поэзию то, что обычно оставалось за скобками, на вырванных из дневника листах, хотя и волновало, может быть, гораздо больше, чем все остальное, говорит о том, что Ахматова называла сором, из которого растут стихи, “не ведая стыда”. А этот “сор” и есть наша подлинная, неприкрашенная жизнь. Таким образом, Павлова преодолевает границы между жизнью и литературой, границы, которые давно прогибаются под напором современной словесности.