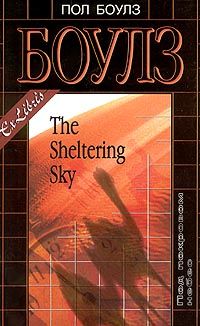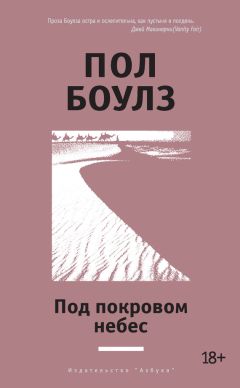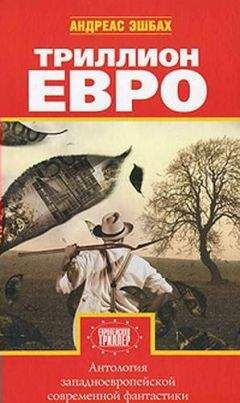Но можно было бы начать и с его первого публичного выступления в Гринвич Виллидж, когда он прочел свои стихи по-французски. Публика решила, что это такой авангардистский жест, а ему просто нужно было воздвигнуть языковой барьер, чтобы его не поняли.
А можно — с пронизанного отчаянием «мескалинового письма» Неду Рорему. Или с одного «мистического» сна, приснившемуся ему в детстве, когда семья переехала в новый дом. Преследуя на цыпочках «взломщика», укравшего его золотые цепочки и драгоценные золотые часы, Пол приходит в столовую и смотрит на шторы. Развдинув их, замечает, что окно разбито, а сетка от насекомых разрезана. И в этот миг понимает, что обнаружен. Но прежде чем он успевает обратиться в бегство, из-за штор высовывается рука, вспыхивает свет, и его начинают душить. Здесь он просыпается. Чтобы успокоить нервы, он решается спуститься вниз проверить окно и с изумлением и ужасом видит, что стекло действительно разбито и сетка разрезана именно так, как в его сновидении. Этот сон остался с ним ярким свидетельством того, что наше знание о мире имеет свои границы, а реальность не всегда совпадает с тем, что мы понимаем под этим словом.
Сходным образом, в качестве «прозрачной сетки», он будет позднее использовать язык в своей прозе. Достоверность деталей и обстоятельств, призванная создать «эффект реальности», в какой-то момент «разрывается», раздается, отступает на задний план, обнаруживая за собой сгусток непостижимого, не поддающегося истолкованию, но вместе с тем абсолютно «реального». Другие имена этого «реального» — небытие, смерть, ничто, зияние. То, что скрывается за тонким покровом «символического порядка» (культуры, знания и т. д.), не обладает никаким смыслом, точнее, обо что разбиваются любые попытки придать «этому» человеческий смысл. Одно из таких имен — пустыня.
Эпиграфом к третьей части «Под покровом небес» Боулз выбрал слова Кафки. Поразительные слова. Но еще поразительнее та настойчивость, с какой он будет к ним обращаться, чтобы объяснить свой писательский метод, при этом прекрасно отдавая себе отчет, что Кафка имел в виду отнюдь не написание книги. Так, в 1980 году, в предисловии к переизданию своего второго романа «Пусть падет» (1952) Боулз писал: «Заметки для меня бесполезны, если нет порции завершенного текста, к которому их можно применить; я понимал, что должен написать достаточное количество такого текста, чтобы он послужил пуповиной между мной и романом, прежде чем я высажусь на незнакомой земле, в противном случае я все растеряю. Когда корабль приблизился к Цейлону, я вдруг неожиданно вспомнил знаменитый афоризм Кафки: Начиная с определенной точки, возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь. Сомневаюсь, чтобы Кафка соотносил его с написанием книги, однако мне он показался подходящим к ситуации. Я постарался миновать эту поворотную точку; только тогда я смог обрести уверенность, что не пойду на попятную и не брошу книгу, когда позднее продолжу работу над ней». Боулз вновь заговаривает о «точке» в беседе с Кристофером Сойером-Лучанно, когда вспоминает, как возник замысел «Под покровом небес»: «Идея пришла ко мне в автобусе, когда я ехал вверх по Пятой авеню от Десятой улицы. Я решил, какую точку зрения изберу. Это будет вещь, в которой рассказчик всеведущ. Я буду писать сознательно до определенного момента, а потом предоставлю всему идти своим чередом. Вы помните цитату из Кафки в начале третьей части: «Начиная с определенной точки, возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь». Мне это представлялось важным».
Роман вышел в 1949 году одновременно в Лондоне и Нью-Йорке и сразу же попал в список бестселлеров. Критики сравнивали его с романами Жене, Сартра, Камю и отмечали, что это едва ли не единственная написанная за последнее время американцем книга, которая «несет на себе печать современного опыта». Между тем, закончив ее, сам Боулз в одном из писем, с присущей ему эллиптичностью, охарактеризовал ее так: «роман как роман — любовный треугольник в Сахаре». На самом деле, конечно, это далеко не все, что можно о нем сказать, хотя фабула, действительно, укладывается в несколько предложений: американская пара, Порт и Кит Морсби, и их приятель Джордж Таннер отправляются в Сахару. Отношения Порта и Кит, женатых двенадцать лет, зашли в тупик. Кит переживает мимолетное сексуальное приключение с Таннером; Порт — с арабской проституткой. Избавившись от Таннера, они продолжают двигаться вглубь Сахары, где Порт заболевает тифом и умирает. Кит подбирает караван, идущий на юг. Она становится тайной наложницей в гареме кочевника, который ее спас и теперь держит под замком, выдавая за мальчика. Когда домочадцы обнаруживают правду, она вынуждена бежать из дома. Ее «бегство» завершается безумием и насильственным возвращением обратно в Оран. В последних строках романа она вновь уходит навстречу неизвестной судьбе.
Пересказ, разумеется, не передает ни особой ауры романа, ни того танатологического драйва, которым одержимы герои. В сохранившемся наброске письма Джеймсу Лафлину, ставшему в конечном итоге американским издателем книги, Боулз описал его следующим образом: «Вообще-то это приключенческая история, в которой приключения происходят в двух планах одновременно: в реальной пустыне и во внутренней пустыне духа… Случайный оазис приносит облегчение от природной пустыни, но… сексуальные приключения не способны принести облегчения. Тень не спасает, ослепительный блеск становится все ярче и ярче по мере того, как путешествие продолжается. А путешествие должно продолжаться — не существует оазиса, в котором можно остаться».
Возможно, это наиболее адекватный «синопсис» книги, поскольку в нем точно схвачено совмещение двух планов, придающее роману тревожную двусмысленность. Кроме того, он демонстрирует неумолимую, фатальную логику, присущую как физическому, так и метафизическому путешествию персонажей. Не будучи прямым, первое, тем не менее, легко поддается описанию, тогда как второе предстает куда более запутанным. Порт и Кит определенно чего-то ищут, но чего? Что ими движет? Цель их поисков, фактически, никак не определена. Поначалу возникает впечатление, что вперед их толкает не желание чего-то конкретного, а неприятие обреченной западной цивилизации. (Неприятие вполне понятное, учитывая временные рамки повествования — сразу после Второй мировой войны.) Таким образом, их путешествие является поиском в той же мере, что и побегом. Порт гордится тем, что он путешественник, а не турист. Отличие одного от другого, по его словам, в том, что если турист «принимает свою цивилизацию как нечто должное, то второй сравнивает ее с другими, отвергая те ее элементы, которые ему претят. А война была одной из тех граней механизированного века, которые он хотел забыть».
Собственно, путешествие и начинается с этой негативной «посылки», но у него есть также иные измерения. Турист всегда помнит о том, когда ему пора возвращаться; путешественник может и не вернуться. На Порта номадическое чувство неприкаянности, лишенности корней действует умиротворяюще. На чужой земле ему «думается лучше»; более того, в дороге он способен принять решения, которые не способен принять живя оседлой жизнью. Правда, решения эти по большей части касаются прежде всего того, какой пункт назначения избрать в качестве следующей — всегда промежуточной — остановки. Внутренний «лед» (отчуждения) остается нерастопленным; просто экзотическое окружение с его новизной притупляет боль существования.
Поиск выхода из «пустыни духа» приводит к пустыне «реального». По мере того как путешествие продолжается, становится ясно, что Порт и Кит, вопреки своим ожиданиям, найдут в Сахаре только песок и небо, смерть и безумие.
Несмотря на обилие автобиографических мотивов, было бы опрометчиво думать, как это делают многие (особенно после фильма), что Порт — это Боулз, а Кит — Джейн. Скорее, «Под покровом небес» можно рассматривать как воображаемый эксперимент, своеобразное «что если?», вживленное в ткань повседневного существования. Позднее писатель признавался: «Пишешь всегда про себя. Но пишешь о преображении пережитого опыта. В настоящей литературе конечный результат всегда получается отличным от пережитого». И добавил: «Литература, по-моему, это суеверный способ удерживать ужас на расстоянии, держать зло за порогом». Такое определение литературы — как заклятия, оберега — помогает нам лучше понять непрямую, опосредованную связь «творчества» с «жизнью». Они соотносятся друг с другом в третьей, лишенной измерения, «точке».
Точке становления, перехода, падения, бегства.
Каковое сталкивает с иным.
Столкновение двух типов мышления, двух противоположных культур — современной, западной, и древней, укорененной в традиции, — будучи сквозной темой творчества Боулза, никогда не разрешается в пользу какой-либо одной стороны. Он никогда не опускается до политической басни или моралите, но использует его как событие зеркальной встречи западного человека с инородным (в) себе. Такие встречи неизбежно катастрофичны. Особый зловещий колорит придает им холодновато-объективный, отстраненный стиль повествования. В отличие от большинства мастеров нагнетания ужаса, в сценах зверства или убийства Боулз редко вдается в чувственные описания; не прибегает он и к обилию прилагательных, чтобы показать, насколько невыносима пытка. Вместо этого, почти в клинических терминах, он просто констатируют факты, как если бы описывал самые заурядные вещи. Такая техника позволяет добиться несравненно более сильного эффекта; «Далекий случай» и «Нежная добыча», помещенные в этом томе, — подлинные шедевры, вырастающие до размеров аллегории «жуткого».