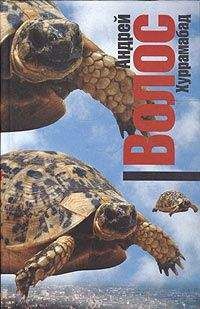— Назад! — яростно орал теперь часовой, размахивая автоматом. — Назад, говорю! Только женщинам с детьми! Женщинам с детьми по вчерашнему списку!
— Говорит, женщинам только… — сказал Дубровин. — Список какой-то…
— А! Список! Знаю я эти списки! Они там понапишут! — мужик перехватил палку и гневно потряс ею в воздухе. — Хлеба давай!
У ворот кто-то дико завизжал — должно быть, придавили к железу. Между тем створка, напугавшись напора, уже торопливо ехала обратно — пусть рывками, но ворота поспешно закрывались, так и не выпустив машину с хлебом.
— А-а-а-а-а!.. — утробно прошло по толпе, и тогда еще наперли, отчаянно пробиваясь ближе к воротам. Женский визг захлебывался — казалось, там убивают, да не одну — нескольких.
— В бога-душу-мать! — переходя на русский, завопил часовой, оскалился, вскинул автомат (он сам был уже почти затерт, и только за спиной у него, между ним и дверью проходной, оставался метр пространства) и разорвал воздух дымной очередью.
— А-а-а-а-а!.. — люди шатнулись назад; задние бежали опрометью, согнувшись, закрывая голову руками; затертые у ворот бились, словно рыба в переполненной сети, в конце концов вырывались, падали на землю, в ужасе ползли, вскакивали; по кому-то бежали, через кого-то перепрыгивали. Спустя несколько секунд пространство у выезда опустело.
Часовой снова стал что-то выкрикивать, потрясая автоматом. Вопили в ответ, возмущенно размахивая руками, тряся сведенными в щепоть пальцами, показывая на испуганных плачущих детей.
— Вот орут-то, вот орут… — безрадостно сказал мужик. — Тут разве пробьешься!.. Тьфу! Знаете анекдот-то? Один пошел в булочную, ему ноги-то и отрезало трамваем… Ни фига себе, говорит, сходил за хлебушком!
Он безнадежно махнул рукой и полез в карман за сигаретами.
5
— О! Молодец! Хорошо, что зашел! Умница! Старика-то грех забывать! — толковал говорливый Васильич, запирая за ним дверь. — На лоджу, на лоджу сразу пошли… Сейчас чайку вздую… У нас ведь теперь как? Как в пещере! — Он захохотал, толкая его кулаком в спину. — Ни помыться, ни побриться! Чайку захочешь — давай костер разводи! Вот, видишь, приспособился!
В лоджии натурально был сложен из нескольких ломаных кирпичей небольшой очажок, на котором стоял смертельно грязный чайник.
— Эти-то курицы — видишь? — Васильич показал вниз, во двор. — Печки сложили, во дворе готовят… А я уж тут, по-стариковски… — Он хлопнул в ладони и потер ими с таким довольным видом, будто рассказывал о каких-то замечательных удобствах. — Молодчага, молодчага, что зашел!
— А я иду к подъезду — ну, думаю, не иначе как свадьба, — усмехнулся Дубровин. — Казаны на улице шкворчат. Ну, думаю, погуляем!..
— Как же! — Васильич помрачнел. — Свадьба! Черта на кривой козе женим. Ни света, ни газа вторую неделю!
Не переставая говорить, он кухонным ножом ловко нащепал от какой-то доски несколько палочек и развел под чайником небольшой огонь.
— В общем — пещера она и есть пещера! Сегодня хоть воду дали, а то два дня ни газа, ни света, ни попить, ни…
— Да что же ты молчишь! — закричал Дубровин, срывая рубашку. — Подожди!
Холодная вода текла жидкой мутной струйкой, и, чтобы набрать полные горсти, приходилось довольно долго ждать. Зато дождавшись, можно было вылить ее на голову или на спину, что Дубровин и делал, счастливо фыркая. Он намылил голову стиральным порошком из мятой коробки, смыл и через десять минут уже снова сидел в лоджии, вздыхая от удовольствия.
— Ну, молодчага! Чистый — просто сияешь! — сказал Васильич. — Знаешь что… — Он задумчиво потер себя ладонью по щеке, на которой курчавилась седая борода. — Сегодня сорок дней, как сосед мой один перекинулся… Есть у меня в заначке двадцать капель… Теплая только, наверное, зараза! Я ведь холодильник-то выключил, чтобы денег не платить… ну, теперь-то, впрочем, и света нет… — Он махнул рукой, ушел и вернулся с бутылкой, на дне которой действительно болталось граммов сто прозрачной влаги.
— Давай, — предложил Васильич, разлив водку по рюмкам. — На помин души Николая Ивановича, соседа моего… Прямо в сберкассе и сковырнулся… Сидел там, сидел… пенсии ждал — ну, ты знаешь… Как слух пройдет, что будут деньги давать, так неделю в кассу не ходи — не протолкнешься!.. Потом, конечно, помаленьку рассасывается… что там без толку сидеть. Вот, значит, я и говорю… Сидел, сидел… А потом трах — повалился, и готово. То ли сердце, то ли чего — неизвестно… Тут не до вскрытий! Только б закопать!
— Пойди еще закопай, — мрачно сказал Дубровин, в свою очередь занюхивая глоток противной горячей водки яблоком. — Три шкуры сдерут. А вот в России…
— Да ладно, что там в России! — отмахнулся Васильич. — Тоже мне — в России! Думаешь, там все кругом медом намазано? А уж похоронить!.. — он покачал головой.
— Нет, ну все-таки в России-то лучше, — не очень уверенно возразил Дубровин. — Не скажи, Васильич! По русскому-то обычаю…
— Ага, по русскому обычаю, — кивнул Васильич. — Знаю я, как там у них по русскому обычаю… Насмотрелся… Озверели — хуже наших…
— Не знаю, Васильич! — помолчав, сказал Дубровин. — Все равно! Если бы у меня была родная сестра под Воронежем, я бы уже сто раз уехал!..
— А! — тот резко отмахнулся. — Перестань ерунду говорить! Что же ты раньше не уехал? Тоже мне — уезжальщик!
— Я? — удивился Дубровин. — Уезжаю ведь! Все!
— Ну и дурак, что уезжаешь! — вспыхнул Васильич. — Все равно тебе нигде лучше не будет! Еще локти-то покусаешь!.. Не-е-е-ет, — он замотал головой. — Я не поеду! Черт с вами! Езжайте! А я — не-е-е-е-ет!
Дубровин вздохнул. Его не переупрямишь. Развелся с женой, расстался с дочерью на старости лет… Они уехали — а он остался, старый болван.
Васильич снял с огня закипевший чайник, вместо него положил на угли стальную пластинку, а поверх нее пристроил баклажан.
— Сейчас испечется, поедим, — сказал он, наливая Дубровину в чашку, где лежало несколько листьев мяты, кипяток. — Я приспособился… Напечешь их, посолишь… м-м-м!
Они помолчали.
— А то оставайся!.. — с тоской сказал Васильич. — Оставайся, правда! Ну ведь не все уезжают! Кольку Ямнинова знаешь? ну, неважно… так он вовсе наоборот — дом достраивает!.. Ты пойми! — Васильич коснулся пальцами его плеча. — Ты приедешь — там все чужое! Понимаешь? Ты ведь даже представить себе не можешь, насколько там все чужое! Воздух! Трава! Небо! Люди! Все!.. Пойми! Там у воды другой вкус, у земли другой запах! Ты там сойдешь с ума, вот что я тебе скажу… Я тебе точно говорю! Пойми, здесь все кругом — свое, родное!.. А там кем будешь?! Оставайся, пока не поздно!
— Что-то я не пойму, Васильич… — сдержанно сказал Дубровин, отстраняясь. — Толкую тебе, толкую… — Усмехнувшись, он потянулся к чашке, но вдруг побледнел и закричал, стуча кулаком по столу: — Ты смеешься, что ли! Я зачем, по-твоему, месяц на платформе торчу?! Из удовольствия?! Думаешь, я люблю на вокзалах сидеть?! Ты что! Ты хоть понимаешь, что все уже, все, все! — он перевел дыхание. — Все уже! Квартиру продал! Машину продал! Деньги отправил! С работы ушел! Барахло собрал! Все! Под корень!.. И он мне говорит — оставайся! Да ты сам сошел с ума! И вообще — при чем тут Ямнинов?!..
Задыхаясь, Дубровин замолчал, припал к чашке, обжегся, расплескал, невнятно выругался.
— Ну, извини, извини меня, дурака старого… — мягко сказал Васильич. Он отхлебнул чаю, почмокал губами, потом произнес задумчиво: — А квартира… что ж… можешь пока у меня жить, пожалуйста!..
Дубровин поперхнулся, вскочил, с грохотом отодвинув стул, и стал, от спешки ошибаясь петлями, застегивать рубашку.
6
Сухая жаркая ночь лежала над землей, залитой желтоватым светом большой пятнистой луны.
Дубровин не спал, а вместо того зачем-то вспоминал свою жизнь, и она лежала перед ним как на ладони.
Прошлое было открыто и понятно. А будущего почему-то не было — вместо живых картинок мечтаний перед глазами телепалась серая пелена, в которой ему, похоже, вовсе не было места. Он ворочался на тряпье, вздыхал, чертыхался, но спроецировать себя через пространство двух-трех недель, через пространство переезда никак не выходило — не воображалось это, хоть тресни, не мог он разглядеть там свою, пусть бы неясную, тень… И в какой-то момент ему стало страшно — да есть ли оно вообще, это будущее?
Он думал, думал, думал не только о себе, и в конце концов тихо сел и стал смотреть на серые тени вагонов, цистерн, телеграфных столбов и приземистых станционных строений.
Стояла сухая жара, но все равно он поежился, представив, что к декабрю похолодает и тогда без света, без газа, в нетопленых квартирах, превращенных в сырые черные норы… «Вот уж запоем!» — пробормотал он, осекся и поправился про себя на «запоете» с таким сожалением, словно было бы лучше и ему остаться тут горевать горе.