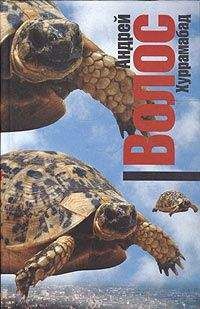Ему вспомнилось утро, когда Вера вернулась с работы и он в первую секунду ее не узнал — в дверях, бессильно привалившись к косяку, стояла седая черная старуха с воспаленными слезящимися глазами. Немного придя в себя, она рассказала, что произошло ночью, и у Дубровина не было никаких причин ей не верить, но все равно в его сознание все сказанное ею ложилось каким-то неживым пунктиром: в родильное отделение ворвались вооруженные люди — - люди в масках — - человек шесть — - стали требовать спирт — - спирт!!! морфий!!! - - вонь, грязь, оружие — - и роды — - она-то ничего не слышит — - роды были тяжелые — - и вот наконец — - ребенок закричал — - закричал! — - один из них подошел и стал спрашивать, не кулябка ли родила? не памирка ли? — - все молчат в оторопи — - кто такая она?! кто?! — - все молчат — - роженица в полуобмороке — - тогда он схватил ребенка — - с размаху шваркнул головой об угол операционного стола — - бросил на пол — -… - -…
Дубровин зажмурился, закрыл лицо руками.
Оглушительным хором звенели сверчки.
— Не спишь? — спросил Муслим.
— Жарко, — хрипло сказал Дубровин, отнимая ладони от лица. — Прямо сил нет.
— Жарко, — вздохнул Муслим, сладко потягиваясь. — Сейчас бы в хауз — бултых! А? Сансаныч! А потом какую-нибудь такую молоденькую!..
Дубровин не ответил, и Муслим замолчал.
— Слушай, — через несколько минут сказал Дубровин. — А я вот, знаешь, что вдруг подумал — ну почему он отрекся?
— Кто? — удивился Муслим и тоже сел.
— Да президент же! — с досадой пояснил Дубровин. — Помнишь? Ну, в аэропорту-то его догнали? Когда он хотел в Ходжент улететь, чтобы там правительство организовывать! Помнишь?
— А, это… — без интереса сказал Муслим. — Помню…
— Зачем он отрекся? А? Вот никак не могу понять!.. Ведь последний шанс был у мужика, последний! Ну мог же он их послать куда подальше! Сказал бы себе — да, пускай, я говно, я поганец, я всю свою жизнь лез наверх по головам, я жрал, воровал, жировал, прикрываясь именем народа! Всю жизнь обманывал, изворачивался, греб к себе, топил других, шел на все, только бы хапнуть — и все со словами о народном благе на устах! — но теперь, у черты, я не сделаю ни шага назад! Вы заставляете меня отречься? Хрен вам, а не отречение! Меня выбрал народ, и только народ может мне дать по шапке! А пока он меня не сместил, я буду со своим народом! И хоть режьте меня на куски! Пулю хотите предложить? — приму и пулю! Петлю? — давайте петлю! Ему ведь все равно только два месяца жизни оставалось! Пожил уже, за шестьдесят мужику было, — какая, в сущности, разница — месяцем больше, месяцем меньше! Он бы героем стал! На него бы молились! Его именем детей бы называли, — помни, малыш, этот человек погиб, но не отрекся, остался со своим народом!.. А он что? а он подписал, что просили… предал… снова выжил… снова выкрутился… ведь какая смута началась после этого отречения!.. какая война, какая беда пришла!.. и все равно через пару месяцев от инфаркта… вот так, брат! Зачем?
— Жить-то хочется… — сказал Муслим. — Это легко сказать — пуля… А как пальнут в брюхо — так другое запоешь, пожалуй!
Невдалеке с грохотом раскатилась автоматная очередь. Вздрогнув и невольно пригнувшись, Дубровин напряженно всматривался поверх железного борта платформы в залитое золотистым лунным светом рябое, расчерченное тенями пространство, в котором три тусклых фонаря ближе к вокзалу выглядели желтыми кляксами. Громыхнула вторая очередь, потом полопались, словно пустые стеклянные банки, пистолетные выстрелы, и все затихло, только в соседнем кишлаке еще долго брехали встревоженные собаки.
— Где-то рядышком, — сказал Дубровин, переводя дыхание. — Не жалеют патронов, черти…
— У них патронов много, — ответил Муслим.
Они помолчали.
— Хоть бы уже пути починили, что ли… — без выражения сказал Муслим.
Он нашарил бутылку с водой и сделал несколько глотков.
— А почему ты уезжаешь, Муслим? — спросил Дубровин через минуту.
— А ты? — усмехнулся тот.
— Я-то здесь вообще чужой, — с некоторым усилием выговорил Дубровин, пожимая плечами. Он зажмурился, повторяя про себя это слово — чужой, чужой! — и оно оказалось бессмысленным набором звуков, потому что все вокруг противоречило ему: два поколения предков, лежащих в освещенной рыжей луной холмистой некруглой земле, горячее фиолетовое небо, на котором влажно поблескивали чистые звезды, запах прожаренной пыли и верблюжьей колючки, стрекотание сверчков, редкое взлаивание кишлачных собак…
— Чужой! — Муслим насмешливо фыркнул. — Какая разница! А я здесь свой? Кого они вообще своим считают? Слышал про такого человека — Сафои?
— Врач, что ли? — неуверенно спросил Дубровин.
— Ну да, хирург… Он мне два года назад почку оперировал. Никто не брался. А он сделал! Он ведь всем был нужен! Сколько народу спас!.. А потом знаешь, что с ним было? Однажды утром какие-то люди посадили в машину, отвезли за Испечак и расстреляли… Патроны! Патронов у них навалом!..
Дубровин покачал головой.
— Да, я слышал…
— А к нам на автобазу… я же рассказывал тебе… пришли люди с автоматами, говорят — соберите всех! Мы собрались… Старший показал автомат и говорит: вы знаете, что это такое? Мы говорим: знаем, уважаемый! Он говорит: хорошо! Тогда давайте без неприятностей! Вы тут бездельничали, а мы воевали за правду. Теперь пишите заявления, собирайтесь, уходите подобру-поздорову, и больше сюда приходить не надо — на ваших местах будут работать другие люди! Им ваша работа нужнее!.. А ты говоришь — почему я уезжаю!.. Ведь семьями люди пропадают! Вечером соседи смотрят — есть, живут люди… а утром приходят — никого нет… а если есть — мертвые! Что же, сидеть тут, ждать, когда и за тобой явятся? Сначала работу отняли, потом скажут — иди сюда, нам мало твоей работы, теперь нам нужна твоя жизнь!.. Нет уж!.. Брат-то мой давно уехал… еще при Брежневе… уже дом давно построил… Калининская область — знаешь?
Дубровин кивнул. Во рту у него было горько и сухо.
— Ну, вот… Я же инженер! Я и шофером могу, и механиком… Могу на тракторе — пожалуйста!
Он помолчал, потом сказал со вздохом:
— Свой, чужой… Тут, знаешь, как в той поговорке… — он пошевелил пальцами. — Ну, помнишь, ты говорил? Как это?
— Бей своих, чтоб чужие боялись… — сказал Дубровин.
— Вот-вот, — обрадовался Муслим. — Именно своих… чтоб чужие…
Луна постепенно забиралась выше и уже не была такой большой и желтой — светлела, серебрилась.
— Ладно… — хмуро сказал Дубровин. — Попробовать вздремнуть, что ли…
7
Он уснул, и ему стало сниться почти то же самое, что было на самом деле, — будто он сидит на платформе, но ждет не отправления, а, наоборот, прибытия поезда, которым сегодня должны вернуться жена и сын. И будто бы он жадно смотрит, приложив руку ко лбу, туда, где мерцает марево жары, и видит, как из расплава степи постепенно возникает, как будто кристаллизуясь, долгожданный поезд. Слезы щекочут ему горло; он понимает, что теперь все будет хорошо — все наладится, все станет на свои места… Он видит смеющееся, счастливое Верино лицо… все вокруг шумят, машут платками… а Сашок кричит почему-то не «папа!», а «Сансаныч!»…
— Сансаныч! Сансаныч!
Дубровин рывком сел, едва не застонав от того, что все тело затекло на досках, едва прикрытых тухлым тряпьем, и раскрыл глаза.
Было еще темно, однако небо на востоке уже бледнело.
— Сансаныч! Все! Едем! — оглушительно орал Муслим, приплясывая возле него. — Тепловоз подали! Едем, Сансаныч!..
Дубровин услышал резкое звяканье — кто-то шел вдоль состава, постукивая молотком по буксам.
— Откуда… — хрипло спросил он, — кто сказал?
— Да вот же! — ликовал Муслим. — Вот же обходчик сказал! Оказывается, еще вчера утром пути восстановили! Э-э-эх! К сестре не успею зайти попрощаться! Э-э-эх, Сансаныч! — он присел, навалился на него, стал тормошить: — Да вставай же, вставай! Сейчас тронемся! Санса-а-а-а-аныч!..
Дубровин почувствовал тяжелое, гулкое сердцебиение. Он встал, держась за борт платформы, беспомощно оглянулся. Было похоже, что обходчик сказал правду — в голове состава чувствовалось какое-то шевеление, что-то там жило, вздыхало, мигало светом, подрагивало.
— Все! Все! Все! — кричал Муслим, тяжело прыгая в такт словам. Он сорвал с головы тюбетейку и размахивал ею, подчеркивая каждый выкрик. — Все! Все! Все! Уезжаю! Уезжаю! Все! Все!..
«Неужели и правда — все?» — подумал Дубровин.
Под днищем платформы громко зашипел воздух — должно быть, заполнялся ресивер.
— Надо хоть воды свежей набрать, Муслим! — хрипло сказал Дубровин. — Целый день по солнцепеку ехать будем!..
Муслим хлопнул себя ладонью по лбу, похватал валявшиеся на полу пластиковые бутылки, с веселым воплем обрушился на землю и почесал, закидывая ноги, к забегаловке Кулмурода, где в боковом окне уже желтел свет.