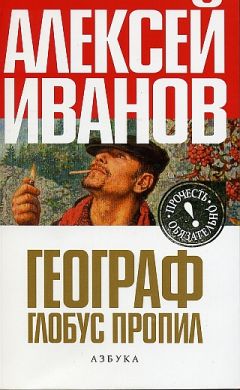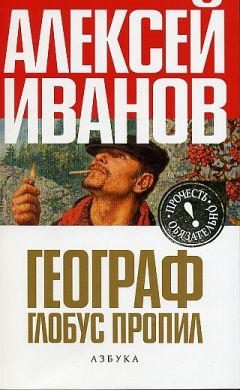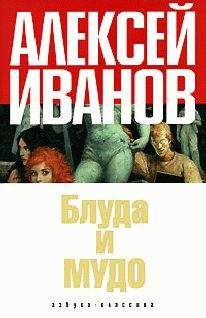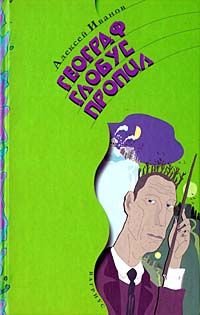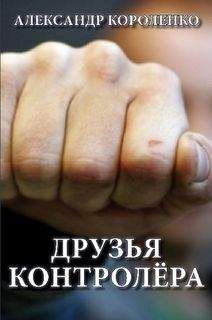— Не спеши, — говорю я. — Я все сделаю сам...
Кончиками пальцев я веду по линиям ее лица — по стрелкам бровей, по опущенным полумесяцам век, по излучине мягких губ, ни разу мною не целованных. Маша в последний раз приоткрывает глаза и наконец закрывает — словно заходит солнце.
— Я люблю вас... Я люблю вас... Я люблю вас... — словно заколдованная, сквозь сон повторяет Маша.
— Я тоже тебя люблю... — говорю я. — Засыпай... Все хорошо.
Какой-то миг — и Маша уже спит. Я держу ее голову и долго боюсь пошевелиться, глядя на Машино лицо — печальное, усталое, прекрасное русское лицо. Потом я тихонько высвобождаюсь, сажусь на скамейке и сгибаюсь пополам, как от удара под дых. Дикая душевная боль оттого, что я удавил свое желание, рвет меня на куски.
Но после я встаю и щупаю одежду. Она почти высохла. Я одеваюсь. Затем осторожно, как куклу, одеваю голую Машу. Наконец, зажигаю сигарету, беру банку с брагой и открываю дверь.
Дождь кончился.
И вот я, Географ, Виктор Сергеевич, бивень, лавина, дорогой и любимый, сижу на пороге пекарни и смотрю на спящую деревню Межень. Я курю. Я пью брагу. Дождя нет, луны нет, но темное, густое небо в зените словно подсвечено каким-то тусклым туманом. Я вижу тяжелые дымные облачные бугры. А по горизонту, над тайгой, небо охвачено полосой угрюмой тьмы. Расползаясь по склону, слабо громоздится деревня Межень. Чуть светлеют покатые крыши, да кое-где горят огоньки. В ночи шумит на невидимых камнях Ледяная, одиноко брехает вдали собака — то ли облаивая свои собачьи кошмары, то ли откопав в огороде мышь, — и беззвучно, просторно гудит тайга, словно жалуется, переполнившись дождем.
Маша спит. Я думаю о Маше, сидя на пороге пекарни. Теперь Маша уже никогда не будет моею. Теперь моя радость уж точно позади. Но я спокоен, потому что выбора мне никто не навязывал — ни люди, ни судьба, ни сама Маша. И пускай скоро Маша, ничего не поняв, отвернется от меня и уйдет в свою свежую, дивную и прекрасную жизнь. Что ж, у нее — первая любовь, которая никогда не бывает последней. А я Машу все равно уже не потеряю. Потерять можно только то, что имеешь. Что имеем — не храним... А я Машу не взял. И Маша останется со мною, как свет Полярной звезды, луч которой будет светить Земле еще долго-долго, даже если звезда погаснет.
И еще я не взял Машу потому, что тогда все мое добро оказалось бы просто свинством. А я его делаю немного и очень им дорожу. Оказалось бы, что я вылавливал Машу в злой речонке, утешал на лугу, тащил по проселку и даже, хе-хе, кровь проливал не потому, что боялся за нее, как человек на земле должен бояться за человека, не потому, что я ее люблю, а потому, что меня взвинчивала похоть. А настоящее добро бесплатное. И теперь у меня есть этот козырь, этот факт, этот поступок. Что бы я ни делал, как бы мне ни было худо, чего бы про меня ни сказали — и алкаш, и дурак, и неудачник, — у меня всегда будет возможность на этот факт опереться. И я не уверен, что в нашей дурацкой жизни Маша бы послужила мне более надежной опорой, чем этот факт.
И я вспоминаю весь наш поход — от самой Перми-второй до деревни Межень. И сейчас здесь, глубокой ночью на пороге пекарни, неясный смысл нашего похода становится мне вроде бы ясен. Мы проплыли по этим рекам — от Семичеловечьей до Рассохи — как сквозь судьбу этой земли, — от древних капищ до концлагерей. Я лично проплыл по этим рекам, как сквозь свою любовь, — от мелкой зависти в темной палатке до вечного покоя на пороге пекарни. И я чувствую, что я не просто плоть от плоти этой земли. Я — малое, но точное ее подобие. Я повторяю ее смысл всеми извилинами своей судьбы, своей любви, своей души. Я думал, что я устроил этот поход из своей любви к Маше. А оказалось, что я устроил его просто из любви. И может, именно любви я и хотел научить отцов — хотя я ничему не хотел учить. Любви к земле, потому что легко любить курорт, а дикое половодье, майские снегопады и речные буреломы любить трудно. Любви к людям, потому что легко любить литературу, а тех, кого ты встречаешь на обоих берегах реки, любить трудно. Любви к человеку, потому что легко любить херувима, а Географа, бивня, лавину любить трудно. Я не знаю, что у меня получилось. Во всяком случае, я, как мог, старался, чтобы отцы стали сильнее и добрее, не унижаясь и не унижая.
И я все сделал неправильно. Не как учитель, не как руководитель похода, не как друг, не как мужчина. Овечкина опрокинул, отцов бросил, Машу обманул. Я даже проломил свой главный принцип: я стал залогом счастья для Маши и сделал ее залогом счастья для себя. Маша, Маша, Маша... Дома друзья-приятели охнут: ну и лопух же ты, девку прошляпил! А подружки сморщатся: как не стыдно, пристал к девочке, малолетке, собственной ученице... Но если в душе моей сейчас такой великий покой, значит, я все-таки был прав... А кто меня поймет? Кто оценит эту правду? Никто. Разве что время... Будущее. Только вот у него ничего не вызнаешь.
Но что это я? Есть ведь одно существо, которое способно понять меня. Многоголовое, сварливое, вечно орущее, вечно грызущееся само с собою существо. Отцы. Только сам-то я как увижу, что они поняли?
И теперь я уже думаю про отцов. Отцы стоят перед Долганом. На рассвете я должен бежать к ним, чтобы застать их до отплытия. Долган — штука серьезная. Без меня отцам его плыть нельзя. Машу я оставлю перед Хромым камнем — потом подберем ее. Злую речонку переплыву, да и фиг. Сегодня мы должны уехать домой. Пора. Я взял от похода все.
Я гляжу на восток. За кручей Хромого камня уже рябит первая муть рассвета. Я залпом допиваю брагу.
... Как дочитанную книгу, я закрываю дверь пекарни, беру прислоненный к стене брус, всовываю его в скобы и шагаю по дорожке вдоль забора к улице. Маша шлепает по лужам за моей спиной. Деревня неподвижна. От ее неподвижности острее воспринимается движение ветра. Ветер раскачивает шесты со скворечниками, играет провисшими проводами. От того места, где должно взойти солнце, на белесом небе кругами расплывается облачная хмарь, словно солнце — это камень, брошенный в ряску небесного пруда. Тайга просторно дышит на вершинах окрестных увалов. Шумит река.
Мы идем посреди улицы, разбрызгивая лужи. По сторонам в окнах домов белеют задернутые занавески. На крылечках стоят блестящие галоши. Слева за огородами виднеется черная полоса Ледяной и несколько белых валунов у противоположного берега, одетого в еловую, волчью шубу.
На перекрестке мы останавливаемся у колодца. Я раздеваюсь по пояс и окатываюсь холодной водой. Холодное утро робко обнимает меня, как девушка. Холод словно перетряхивает меня, и все встает на свои места. Жизнь вставляется в тело, разум — в голову, мужество — в душу. Глядя на меня, Маша зябко передергивает плечами и затягивает на горле шнурки капюшона. Я вспоминаю, что под штормовкой у Маши нет даже свитера, а утро студеное.
— Дать тебе мой свитер, Маша? — спрашиваю я.
— Что ж вы сразу-то не предложили? — усмехается Маша.
Почему я не предложил? Потому что я с ней уже простился.
Мы переодеваемся и идем дальше. Окраина. Неизменные сараи, навесы, ржавые трелевочные трактора и штабеля леспромхоза. Улица превращается в грязную, разъезженную дорогу и уходит в сторону от реки. Дальше стоит сосновый перелесок. Через него вдоль Ледяной к Хромому камню ведет тропа. Мы шагаем по тропе и вскоре выходим к склону, заросшему малиной. Кое-где из малины торчат белые останцы.
— Маша, — говорю я, — тебе надо остаться здесь. Я приплыву с, отцами и заберу тебя.
— Почему это мне надо остаться? — удивляется Маша.
— Ты разве не помнишь, как я вчера с Хромого звезданулся?
— Вчера был дождь, слякоть. И мы были на взводе. Не Эльбрус же Хромой камень, чтобы на него было трудно подняться.
В общем-то, Маша права. Хромой — обычный утес. И даже не очень высокий. Чего это я вдруг так испугался? Сам не знаю.
— Но тебе все равно ведь придется ждать меня, когда я уплыву за ту речонку, где бревно упало. Не лучше ли подождать здесь?
— Я тоже переплыву. Я пойду с вами, — твердо говорит Маша.
— Боишься одна остаться? — Я злюсь и бью ниже пояса.
— Нет, не боюсь. Просто я хочу с вами. И все.
Маша обходит меня и первой начинает подниматься на Хромой камень. Пыхтя, я лезу за ней. Я сдаюсь.
Вершина Хромого — это массивный каменный надолб, с одной стороны поросший кривыми, кряжистыми соснами. Их корни вспороли, пробурили монолит, расслоив его на разновысокие ступени. По этим ступеням мы и поднимаемся наверх. Маша по-прежнему идет впереди меня.
Она добирается до самой макушки и вдруг застывает на последнем шаге.
— Виктор Сергеевич!.. — отчаянно кричит она. — Пацаны заходят в порог!..
Я ракетой взмываю наверх. Широкая дуга Ледяной как на блюде. Зрение мое пугающе обостряется, будто глаза вывинчиваются, как окуляры бинокля. Тяжелый молот бьет в виски. Я вижу все четко-четко, хоть и мелко. По шивере к Долгану плывет наш катамаран.