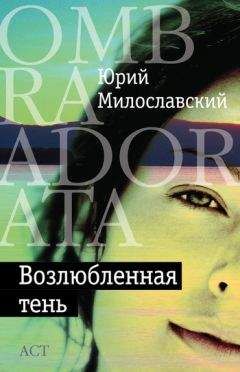Такое разрешение в принципе было дано, и титаренковский побродяга, со вскрытыми и исследованными органами трех основных полостей, готовился к переходу из бюро в залитый формалином резервуар-подпол на кафедре нормальной анатомии…ского стоматологического института.
Следователь Александр Иванович доведался об этом из акта, полученного им на пятый день, считая от прогулки по городу и размышлений над телом убитой девушки-«бегунка».
«Мягкие ткани волосистой части головы не повреждены, – писалось в акте остропетельным зубристым почерком, – твердая мозговая оболочка влажна и напряжена, в ее продольной пазухе умеренное количество жидкой темной крови…; наблюдается застой крови в венозной системе, полнокровие внутренних органов и обильные точечные кхимозы под серозными оболочками легких, сердца, а также в конъюктиву век… Смерть неизвестного лица последовала от острого нарушения коронарного кровообращения. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Судебно-медицинский эксперт Гудзь В. А.»
– Бродил-бродил, а в рай почесал от инфаркта, – романтически съерничал Титаренко.
– Кто такой? Поч-чему не знаю? – мгновенно пошутил от своего стола Пилихарч.
И не успел следователь Александр Иванович ответить, – или промолчать, – как оперативник, будто бы с тем же настроением, но судя по звуку, отворотясь к двери, поставил кому-то вопрос:
– А вам, дядечку, какого здесь надо?
Одетый в покоробленное и серое, при старой шевиотовой кепке средних лет слобожанин, как видно, пересекши незамеченным комнату Титаренки – да и сам его не заметив по своей сосредоточенности, – был перехвачен на условном пороге сто второго кабинета; обращаючись то к одному, то к другому из присутствующих, он со смирением раскланивался по всем сторонам, отчего тощий его загривок накатом выявлял то правый, то левый сухожильный тяж.
Забраться без предварительного вызова или оповещения в следственный отдел прокуратуры могло, скорее всего, лицо повышенной наглости – либо глупости. Поэтому следователи, сердясь, требовали от вошедшего не столько разъяснений, сколько интересовались – понимает ли он, куда его занесло?
Слобожанин, по-черкасски «лекая», гнул свое, непрерывно извиняясь, но с определенною настойчивостью. Его положение спасала только робкая, не вызывающая желания окоротить – необидная никому – внешность. Его слали вниз! – вниз! – вниз! – а он назывался Гупало Марком Игнатьевичем, направленным сюда, чтобы опознать погибшего родственника, теткина сына.
– А кто ж вас направил? – не преминул поинтересоваться Титаренко.
– А так Белодедко ж! – с радостною укоризною, но как бы исполняя заключительную строку нескладухи, откликнулся Александру Ивановичу дядька Гупало и продолжил много медленнее против прежнего: – Ото я утречком вышел обкопать…
– Ладно, сюда идите, – пригласил его Титаренко. Сослуживцы в смежных помещениях заговорили о своем.
Следователь Александр Иванович был легок на тот повседневный мнемонический эквилибр, когда нужное, будучи подброшенным из темноты, сразу же начинает посверкивать и вращаться.
– Он что, рядом с вами жил? – Александр Иванович полагал, что сведения проще всего отматываются, начиная с невинного «где», с мягким переходом на «когда», которое надобно выяснять и выяснять, покамест протокольные «кто» да «что» сами собою не выплывут из-за поворота.
– Ото мы с Волчанска приехали, так я до тетки заглянул, а она вже беспокоится, волнуется, нервничает, – дядько Гупало пощурился, почесал о неподвижно выставленный указательный палец основание сухого твердого носа-ноздряка. – А вже утром я в завод иду, так Валентин мне рассказувает.
– Ага… ага… ага, – толчкообразно, будто из одной лишь вежливости сопротивляясь нахождению дремоты, произносил Титаренко. – Так а вы, дядьку, на соко-маринадном работаете?
– Вже скоро это, на пенсию уйду, – кивал следователю Александру Ивановичу Гупало. – Ото ж я приехал с Волчанска, с базы, к тетке только зашел, а она ж волнуется! Я говорю, что он вже скоро придет, а вона кричит: не! я знаю! я вже знаю!! Что ты знаешь?! Что ты можешь, ото, знать?!
– А так чего ж она сама не обратилась?
Этот вопрос относился к последним из данного ряда: до сих пор в совокупности ответов слобожанина следователь Александр Иванович не ощутил разумного желания пораньше достигнуть главного – фактажно, со всею доступною непротиворечивостью обосновать свое долгое и могущее оказаться небезопасным для него присутствие там, откуда другие стремятся поборзее удалиться; это возмущало.
– Бо она вже старая женщина, пожилая такая…
Но здесь Александр Иванович, зловеще побарабанивая карандашиком, перебил:
– А вы уполномоченному заявление писали? – и тотчас же вслед за этими словами рявкнул: – А?! Вы к кому вообще пришли?! Кого вы разыскиваете?!
И тотчас же Титаренку вновь повело ночным рвотным холодом.
Едучая дурнота с размаху ударила его в глаза и уши, отчего поневоле пришлось схватить ладошами голову, дабы изо всех отверстий ее не полезла давешняя клочковатая начинка.
– Так сыночек, так товарищ милиционер, так не надо! – скорбно вскричал Гупало. – Я ж к вам потому, что оно все равно вже это. Вы меня только извините, что я вам говорю, бо я ж вижу, как оно вам неприятно.
– Все! Завязали! – шикнул на него следователь Александр Иванович.
Отравленное содержимое, которым он был упитан, по видимости, только отхлынуло и растеклось по каким-то абдоминальным резервуарам, но количество его оставалось прежним.
В минуту получив искомые сведения – как звать, кем приходится, как долго отсутствует и прочее подобное, – Титаренко рассекающим жестом принудил дадьку Гупало замолчать и принялся звонить в бюро, чтобы подготовить официальное опознание трупа.
Эксперт Гудзь, чья подпись удостоверяла просмотренный Титаренко акт, уехал еще с полудня.
Титаренко и подошедший со стороны бюро к телефону дежурный несколько времени предлагали друг другу несовпадающие или кого-либо из них не устраивающие даты и цифры; это продолжалось до тех пор, покамест собеседников не оставило взаимное раздражение – после чего они договорились о встрече на завтра в одиннадцать.
Тот, кого называли Гупало, дядькою Марком Игнатьевичем, очевидно, утомился: изнемог от ядовитого сочетания ощущений, куда входят страх, обида и предчувствие неизбежно-дурного исхода, образуя, все вместе взятые и испытанные, неявную, но почти обязательную подоплеку любого разговора с начальствующим, которому преданы властные функции, могущие в одночасье над тобою разрядиться. Сходным образом воздействует и допрос; именно таким воздействием следователь Александр Иванович объяснял себе затененную, оттянутую по челюстным закраинам долу, с набухшими лиловыми веками физиономию родственника пострадавшего; никак не иначе трактовал он острую дрожжевую материю, которою несло от его тела, – он знал также, что подобное состояние без конца длиться не может: допрашиваемый, если только у него нет воистину важных, закороченных на базовые инстинкты, причин таиться, не выдерживает и сообщает либо так называемую правду, либо то, что от него требуют и ждут.
Но творящееся на протяжении трех часов в сто первом кабинете, когда присутствие завершилось и смежные комнаты были пусты, выглядело нелепо. Впрочем, нелепость была лишь кажущейся. Никаких сведений не хотел все сразу припомнивший А. И. Титаренко от дядьки Гупало; не существовало ничего, что он пожелал бы услышать хотя б для сиюминутного интереса – для смеха, для общей информации, для застольных баек, – и Титаренко в этом не заблуждался. Более того, его неизъяснимо отвращало все связанное с откопанным на строительной площадке бывшим неопознанным, а ныне – Стецьком: Асташевым Степаном Андреевичем, сыном престарелой тетки Натальи – сыном, который сперва надолго уехал в Донецк, а потом, как только приехал, так и пропал и вот теперь нашелся неживой; и чем больше узнавал Титаренко, тем горше ненавидел он дядьку Гупало, тем яростней винил его в невозможности избыть возникшую между ним и Титаренко – и неизвестно чем – связь; и за это одно следователь Александр Иванович продолжал мучить дядьку Гупало, пугать задержанием, изгаляться, надеясь, что слобожанин его поймет, догадается – и сделает как-нибудь так, чтобы все теперешнее обернулось на прежнее. Как это обернуть – слобожанин должен был додуматься сам; это было его дело, Титаренко пособить в этом никак не мог; и он выбивал, выдавливал из допрашиваемого свое собственное освобождение; это он, Гупало, пришедший за ним, ни в чем не замешанным следователем Александром Ивановичем, прямо в помещение прокуратуры, должен был отпустить его; и тогда, за это , и Титаренко его отпустит. Но только на определенных условиях.
Поэтому главная забота Титаренки состояла в том, чтобы пленить Гупало в пределах повторенной им уже более сотни раз очевидной небылицы: насчет Донецка, неожиданного исчезновения и материнского горя. А удержать его там с каждою минутою становилось все затруднительней. Казалось, будто слобожанин каждым своим словцом, каждым движением намекает, что вот-вот не стерпит – и перестанет щадить своего мимозного собеседника. Потому-то Гупало нельзя было отпустить первым; за ним полагалось присматривать неотлучно и без устали ответно намекать ему: берегись, я не выдержу! – и вот тогда он навряд ли проговорится.