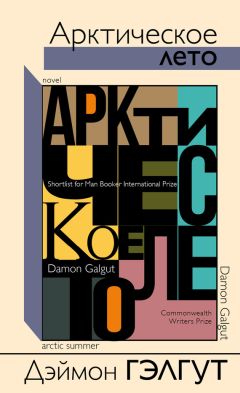– Откуда это? – спросил он Карпентера?
– Это «Листья травы». Я говорил вам, что много лет назад был очень дружен с Уолтом Уитменом?
– Говорили.
Та самая история, которую часто рассказывал сам Карпентер, но Морган слышал ее от Голди. Ходили разговоры, что Уитмен и Карпентер были любовниками. Но даже если это и было правдой, глянец от многократного повторения с нее сошел, и Моргану не улыбалось вновь выслушивать воспоминания давно минувших дней. Он помахал рукой на прощание и вышел из ворот.
Но слова продолжали жить в его сознании. «Поездка в Индию». Именно так – просто и безыскусно. Сама по себе фраза не говорила ничего, но раскрывала путь в далекое будущее. Она же напоминала Моргану о его первой поездке в Индию, когда, сидя на палубе корабля много лет назад, он разговаривал с Сирайтом.
* * *
Период мучительного застоя длился недолго. Несмотря на свою относительную неосведомленность в процессуальных вопросах, Морган достаточно легко написал сцены в суде, но затем пошла более трудная работа. Третья часть книги заставила Моргана напрячь все свои силы. Физические детали он привез из Деваса и Чхатарпура, а вот религиозный контекст представил, главным образом, праздник Гокул-Аштами. Но сам этот праздник с его экзотической живописностью выступал над тканью повествования, привлекая к себе все внимание и отвлекая от главного. Морган пытался растолковать то, что нельзя объяснить словами, а если и можно, то лишь теми словами, которых он не знал.
Как будто этого было недостаточно, работа над романом продемонстрировала Моргану и его собственные слабости. Борьба, которую он вел, была борьбой унизительной, и здесь крылось гораздо больше обязанностей, чем прав, – скорее суровое ремесло, а не вдохновенное, высокое искусство. Не то чтобы он лгал себе и другим. Вовсе нет, однако его интересы всегда лежали в сфере реального, а не вымышленного. Он сравнивал себя с другими литераторами: жизнь этих людей определял настоящий голод, неутолимое стремление понять жизнь в слове и воплотить понятое средствами языка. Подобный голод был чужд Моргану. В том, что он писал, всегда присутствовало нечто надуманное, требующее усилия воли. Настоящие художники работают по-другому. И если он никогда больше не возьмется за перо, вряд ли почувствует, что потерял нечто значительное.
Морган объявил о своей, как он полагал, творческой немощи, когда на уик-энд приехал в Монкс-Хаус, особняк в Родмелле, незадолго до того приобретенный Леонардом. С Леонардом и Вирджинией они играли на лужайке в шары, когда его внимание своей гладкой сферической поверхностью привлек шар, который он держал в руке. Никогда, никогда его письмо не обретет этой сферической гладкости; совершенство круга ему недоступно.
– Знаете, – неожиданно проговорил он. – А я ведь никакой не романист.
Он произнес это безо всякой задней мысли; в тот момент сказанное показалось ему чистейшей правдой. Но он почувствовал, как насторожились Леонард и Вирджиния. Его слова заставили их замереть.
Наконец, совершенно неожиданно, Вирджиния сказала:
– Вы совершенно правы. Конечно.
Она говорила совершенно искренне, без всякой злости или зависти – словно просто признавала факт, такой же, как, допустим, уникальность цвета его волос или глаз.
– Вот как? – произнес он с жаром.
Вирджиния была ведьмой или, по крайней мере, Верховной жрицей искусства, и она могла освободить его. Морган очень хотел узнать, что она скажет дальше.
Но Леонарду сделалось не по себе. Руки его, и без того дрожащие, затряслись сильнее.
– Что за бред! – выпалил он. – Вы пишете романы, следовательно, вы романист. Как еще вас называть? Вы всегда хотели улизнуть, но, уверяю вас, ваши мучения принадлежат не вам одному. Все остальные страдают не меньше вашего. Жаль, что вы этого не понимаете. И, прошу вас, ваш черед бросать шар.
Морган попытался было протестовать: он не такой, как все, и так было всегда – даже если он вынужден играть в шары, как и прочие гости Монкс-Хауса, где не щадили никого. Его мяч вяло покатился и остановился, не добравшись до цели, отчего Леонард неодобрительно щелкнул языком.
– Понимаете ли, – сказал Морган хозяевам, когда они отправились на ланч, – я нисколько не удручен своей литературной карьерой.
Так оно и было. Если с нынешним романом он потерпит неудачу, катастрофы для него в этом не будет. Неудача, так неудача. Это же просто литература, а не реальная жизнь, что гораздо важнее любой литературы. Есть же у него и другие интересы, на которые он в состоянии опереться.
Он теперь знал доподлинно – это будет его последним романом. Раньше он лишь пугал себя и остальных, но теперь решил твердо. По ту сторону Индии, на горизонте, не вырисовывалось ничего. Он понимал, что нечто важное кончилось, исчезло окончательно. Если бы он оставался в рамках хорошо знакомого и безопасного мира, с его зваными обедами и английскими пейзажами, то продолжал бы потихоньку один за другим гнать бесконечные романы, как две капли воды похожие друг на друга. Но мир, интересующий Моргана, умирал, а то и вовсе умер, похороненный под автомобилями и железными дорогами, отравленный дымом войны. Писатель должен смотреть вперед, а не вспять, а сил Моргана недостанет, чтобы бежать ноздря в ноздрю с историей. Книг, подобной той, над которой он работает, больше не будет.
Кроме того, если книжка получится, она станет подходящим финалом его писательской карьеры. По крайней мере, будет отличаться от большинства книг, написанных в Англии, а также ото всех книг, где Индия выведена в качестве главного героя. В лучшие моменты работы Моргана охватывало чувство, что он действительно создал нечто совершенно новое. Но такие моменты приходили нечасто, да и длились недолго.
Обычно, когда работа подходила к концу, она переставала нравиться. Окончание романа давалось тяжелейшим трудом; Морган писал, сжав зубы и чувствуя нарастающее беспокойство в животе.
Задолго до того, как он подошел к последним страницам, он уже сложил их в голове. Радости они ему не принесли. Поначалу, когда Морган только принялся за работу, он представлял свою книгу мостиком взаимопонимания и взаимного сочувствия, который свяжет Восток и Запад. Но по мере продвижения вперед он стал осознавать, что это не так.
И он, и Масуд, и Англия, и Индия знали – впереди, в будущем, их ждет союз еще более прочный, чем тот, что установлен сейчас. Но теперь Морган понимал: жизнь не соединяет, а разъединяет героев его истории, и именно об этом говорил его роман – о все расширяющейся пропасти между людьми и культурами. Нигде подобное ощущение не выражалось так откровенно, как на последних страницах его романа.
Он немного покрутил последние фразы, добился нужного ритма – для финала это было крайне важно. Потом поставил точку и отложил перо. Открыл дневник и зафиксировал время: двадцать первое января тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Написал и положил на стол карандаш Мохаммеда, приготовленный специально для этого случая.
Одиннадцать лет! Он ожидал, что почувствует особую значительность этого момента, но ничего подобного не произошло. Словно он выполнил одно совершенно пустячное дело и через минуту готов обратиться к другому, точно такому же. Все, что произошло за эти одиннадцать лет, каким-то образом должно было заполонить его кабинет. Но не заполонило. Не ощущалось ничего – ни следов Индии или Египта, ни воспоминаний о мировой войне, ни мучений над незаконченным романом, ни двоих мужчин, которых он любил. Только толстая полурастрепанная пачка бумаги, испещренная словами, что он написал.
Морган почувствовал, что обязан сделать что-то еще. Было довольно рано, и впереди лежал пустой, не заполненный событиями день. Он написал короткое письмо Вулфам, где сообщал, что закончил работу, но после этого – за исключением отправки письма – делать было абсолютно нечего. Поэтому он аккуратно сложил листы рукописи и некоторое время посидел за столом, тихонько мурлыкая себе под нос, после чего, почувствовав голод, отправился вниз, на поиски чая.
* * *
Прошло пять месяцев с того дня, как жизнь утратила свою главную движущую силу, пять месяцев с момента завершения рукописи до ее выхода из печати. Книгу долго и трудно набирали и печатали, после чего Морган работал с корректурой. Но время, когда он мог еще все изменить, давно осталось позади. Дело было сделано, дорога назад закрыта.
В этот период бездействия умерла тетя Лаура. С ней Морган никогда особенно не нежничал, но ему было жаль с ней расставаться – тетка оставалась связующим звеном между ним и отцом. А может быть, таким звеном был Уэст-Хэкхёрст, единственный проект, который его отец завершил за свою недолгую карьеру архитектора. Тетя Лаура прожила там сорок шесть лет и завещала Моргану пока еще не выкупленный дом и право выплатить остаток лизинга.
Ее завещание вызвало в доме настоящий переполох. Лили и Морган только что приобрели Харнхэм, дом в Уэйбридже, что до сих пор арендовали. Теперь они столкнулись с необходимостью продать его, пойти на шаг, чреватый многими неудобствами.