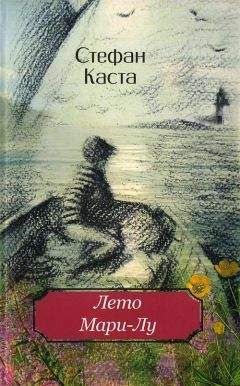Папа никогда не был хозяйственным. Он стрижет траву. Во всяком случае, иногда. Это его летнее занятие. Кстати, курятник — это тоже отчасти его дело. Когда второй раз объявились лисы, Бьёрн предложил приспособить под курятник его старенький автофургон. Все равно тот стоял без дела и пылился. Папа клюнул. Думаю, он считал эту идею просто блестящей. И однажды воскресным утром Бьёрн загнал свой автофургон на наш птичий двор. С тех пор он тут и стоит.
Папа воспринимает дом как место отдыха. Он приезжает сюда, чтобы расслабиться от постоянных стрессов на работе, оживить старые знания в ботанике и написать несколько страниц своего вечного романа.
Без Бритт дом медленно, но верно начал приходить в упадок. Догадываюсь, что во всем, что случилось позднее, нельзя обвинять ее одну. Конечно же, за то, что она сделала сама, — можно. Я имею в виду ее недостойную интрижку с Бьёрном. Но не больше. Я знаю, что она сильно переживала. Но это не меняет моего отношения к ней: она мне не нравится, и точка.
* * *
Я так и не понял, что Мари-Лу умело скрывала свои эмоции. Говорила небрежно и насмешливо. По ее словам, примерно этого и следовало ожидать от настоящей «свинской вечеринки». Словно ее это совершенно не касалось.
Но правда в том, что случившееся взорвалось в ее жизни словно бомба. Для Мари-Лу это было худшее, что только могло произойти. Все, во что она верила, разлетелось на кусочки. Ее папа изменил маме с другой женщиной в их собственном доме.
Думаю, Мари-Лу лишилась пропорций восприятия. Предательство отца стало преувеличенно большим. Оно въелось в голову и затуманило ей взгляд. Думаю, это вполне естественная реакция для двенадцатилетнего ребенка. Возможно, я и сам бы так отреагировал. Детство — это в лучшем случае невинная сказка с королем и королевой. Рано или поздно нужно понять, что это не так. Понять, что родители — просто обычные люди со своими слабостями и недостатками, как и все другие. Но для Мари-Лу это открытие стало шоком.
Хуже всего то, что ей так мастерски удавалось скрывать свои истинные чувства. Ничто не выдавало тот кризис, в котором она пребывала.
Хотя нет: то природное любопытство, которое мне так нравилось в ней, вдруг стало каким-то навязчивым. Она начала искать захватывающие ситуации, чтобы доказать мне свое полное равнодушие к тому, что произошло.
* * *
Я слышу сирену, еще когда машина проезжает мимо магазина. Я стою во дворе и пытаюсь починить проколотое велосипедное колесо. Папа отрывается от своего ноутбука и выходит на лестницу.
Сначала слабый звук долетает до нас урывками, словно иногда ветер подхватывает его и относит к озеру. Затем звук становится громче. Он похож на вой волка, который мечется и изливает в вое свою печаль и боль.
Я пытаюсь угадать, куда едет автомобиль, шурша колесами по извилистой гравийной дороге.
Слышу, как он замедляет ход на крутом повороте около автобусной остановки, прибавляет скорость на прямом участке вдоль полей, сворачивает, не доезжая мыса, и едет на запад.
Вдруг звук внезапно прерывается, и воцаряется тишина. Папа вышел на газон и встал рядом со мной.
Я точно знаю, где остановилась скорая. Вижу по глазам папы, что он тоже знает.
* * *
После обеда папа звонит в больницу. Он довольно долго беседует с Ирьей. Я стою рядом, слушаю и все понимаю. Жизни Мари-Лу ничего не угрожает. Она в сознании, но поврежден позвоночник. Некоторые позвонки сжались. Вот все, что удалось узнать.
Она спрыгнула со старой черешни прямо на черные гранитные плиты.
Она выждала девять дней, прежде чем сделала это.
* * *
Когда я просыпаюсь, озеро уже успокоилось. На поверхности воды — лишь легкое волнение. Выйдя из дома, я слышу монотонное рычание, которое докатывается сюда с другой стороны бухты. Я вглядываюсь вдаль и различаю трактор, медленно ползающий по полю туда и обратно. Отсюда трактор кажется не больше мухи. Бьёрн убирает сено. Я воспринимаю это как знак устойчивой хорошей погоды.
Я съедаю два бутерброда с маслом и яичницу и выхожу на мостки пить чай. Трактор замолкает. Рядом с щебетом проносится трясогузка и приземляется на мостки, покачивая хвостиком. Неплохо бы ее нарисовать. Я ищу свои недавно купленные карандаши и выбираю один из них с маркировкой 2В. Мягкий грифель почти утопает в бумаге, пока я моделирую тело птицы: головку с белыми как мел щечками и бдительными темными глазками, черный слюнявчик на груди, прямой хвост, быстрые ножки-спички.
Как только я заканчиваю рисунок и отодвигаю его от себя на расстояние вытянутой руки, трясогузка улетает к дому. Я вижу, как она исчезает под черепицей почти у самой печной трубы.
Я остаюсь на мостках и еще некоторое время наблюдаю за птицами.
Единственный звук, долетающий до меня, — это легкий шелест волн, перекатывающих камушки у кромки берега. Настоящие летние волны. Я закрываю глаза, и меня наполняет мерный звук прибоя.
«Это самый древний звук, — думаю я. — Точно таким же он был в начале времен. В бронзовом веке. Или даже еще раньше, до того, как появился человек».
* * *
После несчастья с Мари-Лу Норден рухнул, словно карточный домик. Словно она заставила нас всех взглянуть на произошедшее с другой точки зрения. С точки зрения Мари-Лу.
Не знаю, правильным ли было это решение или нет, но Ирья рассказала моему отцу, что собирается уехать от Бьёрна в Стокгольм. Ради Мари-Лу.
Бьёрн начал пить. Он и так никогда не был образцом для подражания, но раньше алкоголь не имел над ним такой власти. Не так, как над другими. Бьёрн обладал почти сверхъестественной способностью в одиночку справляться с кучей дел. Сутра он проверял сети и отвозил улов в город. Потом до обеда чинил свой ржавый «Вольво-240». После обеда молотил пшеницу. Отправлялся на тракторе в Одаль и привозил оттуда в два раза больше прицепов для перевозки зерна, решал какие-то запутанные дела с обменом в промышленном районе и вечером возвращался домой с прицепами, нагруженными дренажными керамическими трубами для клеверного пастбища и садовой мебелью для новой террасы, которую он вскоре собирался сделать. Затем он снова запрыгивал в трактор и пахал до глубокой ночи. После этого переключался на ремонт автомобиля и только потом падал на кровать. И так день за днем.
Никто не мог понять, как это у него получалось. А сам Бьёрн лишь смеялся и вытирал пот с лысины. Он ходил быстрым шагом, подавшись вперед, словно вот-вот упадет, почти не отрывая ног от земли. Со стороны казалось, что он едет на роликах. Тем не менее, он двигался быстро.
А теперь в нем словно что-то сломалось. Та сказочная работоспособность, позволявшая ему несмотря ни на что выдержать двадцатичасовой рабочий день (скорее всего, это была любовь к Ирье и Мари-Лу), покинула его.
Он пытался справляться с делами как раньше. Но начинал забывать, что хотел сделать. Сенной пресс-подборщик неделями простаивал в поле. Бьёрн брался то за одно, то за другое, но ничего не доводил до конца. Он мог прицепить борону и выехать со двора, а потом внезапно выпрыгнуть из трактора и броситься красить мастерскую, а потом плюнуть на все и сесть пить грог с каким-нибудь дачником, приехавшим купить гольца.
А главное, он перестал смеяться.
* * *
Я отправляюсь на лодке проверить сеть и с трудом нахожу ее совсем не там, где оставил. Видимо, сильный ветер отнес ее. Вскоре я замечаю красный пластмассовый поплавок на порядочном расстоянии от берега.
Говорят, на озере Веттерн трудно рыбачить. По правде говоря, это очень большое озеро. Бездонное, с кристально чистой водой. Нужно знать, где и какая рыба обычно стоит, иначе останешься без улова. Нам с папой это известно. Я имею в виду, что значит остаться без улова. Но рыба есть: лосось, сиг, хариус, щука, окунь и даже голец. Несколько раз нам попадался сиг, а однажды летом мы поймали леща весом три килограмма.
Но в это утро моя сеть пуста. Я совсем теряюсь — иногда это бывает со мной — и долго не могу решить: оставить сеть там, где лежит, оттащить ее подальше или достать. Я сижу в лодке примерно четверть часа и размышляю. Наконец я решаю оставить ее в воде. От раздумий я весь вспотел.
* * *
Через неделю после несчастного случая мы с папой навещаем Мари-Лу в больнице. У нас с собой коробка шоколадного ассорти из «Вивохаллена» и букет цветов, я собрал их на «нашем» лугу на другой стороне леса. В основном это колокольчики, Мари-Лу очень любит их.
Сегодня самый жаркий день лета, город словно вымер. Одинокие силуэты прячутся в густой тени деревьев в парке. В больнице царит такая тишина, что с легкостью поверишь, будто она заброшена. Входные двери распахнуты настежь. Коридоры пусты. В столовой вяло колышутся шторы. Все медсестры как сквозь землю провалились. Мы скользим по блестящему полу в отделение номер четыре и в самом конце коридора находим палату номер двадцать один.