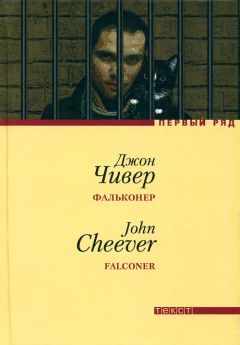Нейлз выбрал пластинку и запустил проигрыватель. Тони знал, что ему предстоит еще раз услышать «Мальчиков и девочек». Нейлз не был театралом, да и к музыке был равнодушен, но почему-то — это было так давно, что никто уже не помнил, как это случилось, — у него вдруг оказались два билета на премьеру «Мальчиков и девочек». Кто-то из его приятелей то ли заболел, то ли должен был уехать и отдал свои билеты Нейлзу. Нейлз собирался уступить их кому-то еще, потому что терпеть не мог опереток, а имена Лессера и Раньона ему ничего не говорили. Но у Нэлли в ту пору появилось новое платье, и ей хотелось его надеть. Словом, случилось так, что они пошли на премьеру. Усевшись в кресло, Нейлз мрачно приготовился слушать увертюру, но первая же фуга привела его в неописуемый восторг, и с каждой арией его восторг возрастал. Когда же дело дошло до финального хора, Нейлз, вскочив на ноги, принялся, не щадя ладоней, хлопать и реветь: «Бис, бис!» В зале уже загорелись огни, а он все еще бесновался. Нейлз покинул театр одним из последних.
Он был уверен, что в тот вечер ему довелось быть свидетелем исторического перелома в театральном искусстве. Нейлз даже сочинил сентиментальную теорию об обреченности гения. Образ Франка Лессера сплелся в его сознании с образом Орфея, и когда он прочитал в газете, что Лессер развелся с женой, он каким-то образом связывал эту катастрофу с совершенством «Мальчиков и девочек». Он решительно отказывался идти на другие спектакли Лессера, ибо был убежден, что в них обнаружится трагический спад его дарования. История не знает художника, который был бы в состоянии повторить свой шедевр. В глубине души Нейлз даже считал, что с Лессером следовало бы поступить, как поступили со строителем храма Василия Блаженного, и выколоть ему глаза. Премьера «Мальчиков и девочек» осталась в его памяти навсегда как долгий летний день, непревзойденное очарование которого таит в себе намек на неизбежность зимы и смерти.
Нейлз начал подпевать проигрывателю. Он купил эту пластинку давно, тотчас после премьеры, и она уже была сильно заиграна. Нейлза это ничуть не смущало. Слов он не знал и вместо них вставлял бессмысленные слоги (ти-ра-ри-ти-ра-ра), но во время арии «Счастье, будь сегодня джентльменом» вскочил на ноги и, стуча кулаком одной руки по ладони другой, пропел целиком запомнившиеся ему куплеты. Во время финального хора он выкинул обе руки вверх, как бы в попытке достать с неба звезду, а когда отзвучала последняя нота, глубоко вздохнул.
— Вот это был спектакль, я тебе скажу. Всем спектаклям спектакль. Жаль, что тебе не довелось его видеть. Ну, ладно, пора спать.
* * *
А наутро Нейлз затосковал по сыну. В комнате у Тони стоял холод. Он имел обыкновение выключать батареи и спать с открытыми окнами. Из-за холода казалось, что обитатель комнаты покинул ее давно, задолго до этого утра. «Как странно! — удивился Нейлз. — Можно подумать, что он уже год в отлучке». Он с нежностью оглядел разбросанный по комнате хлам повседневной жизни своего сына: побитые бутсы с загнутыми носами и ребристыми подошвами, футболку, кучку книг, в которой соседствовали Стивен Крейн, Сомерсет Моэм, Сэмюэль Батлер и Хемингуэй. Однажды Нейлзу понадобился словарь, он снял его с полки у Тони, раскрыл, и оттуда каскадом посыпались фотографии голых женщин — штук пятьдесят, если не больше. Нейлз был несколько ошарашен. Он просмотрел все фотографии, одну за другой, дополняя эту галерею распутных незнакомок своим более чем скудным опытом. Отпечатанные на дешевой газетной бумаге, фотографии эти, по всей видимости, были вырезаны из каких-то специфических журналов, решил Нейлз, — типа тех, что видишь на столах парикмахерских или у чистильщика обуви. То обстоятельство, что его возлюбленный сын предпочел коллекционировать подобные картинки вместо марок, наконечников индейских стрел, минералов или редких монет, не слишком тревожило Нейлза. Он спокойно принялся разыскивать нужное ему слово, а картинки выбросил. Некоторое время спустя, быть может через месяц, Тони его спросил:
«Ты брал мой словарь?»
«Брал, — ответил Нейлз. — Я выбросил те картинки».
«А-а», — сказал Тони.
На этом дело и кончилось.
На столике подле окна стоял магнитофон — подарок Нейлза ко дню рождения. Включить магнитофон было бы так же немыслимо для Нейлза, как вскрыть письмо, адресованное Тони. Но если бы он включил его, то услышал бы следующий монолог: «Грязный старый павиан, — произносил голос его сына, только звучавший на пол-октавы ниже, чем в жизни. — Грязный старый павиан. Каждую ночь ты мне мешаешь уснуть. Только я лягу, как ты начинаешь сквернословить у себя в спальне. Ты самый большой сквернослов на свете, грязный, гнусный, похотливый старый павиан».
Впрочем, Нейлз не включил магнитофона.
Вместо этого он пошел к себе, снял костюм, в котором ходил в церковь, надел домашний. Он как-то внес предложение церковному старосте, чтобы прихожанам разрешалось являться к ранней обедне в спортивной или рабочей одежде, в которой обитатели Буллет-Парка обычно ходят по воскресеньям. Но отец Рэнсом его не поддержал. «Этак, — сказал он, — мы дойдем до того, что священник будет служить обедню в теннисных шортах». Нейлз спустился в подвал и заправил механическую пилу. В небольшом овражке в южном углу участка медленно умирала от жучка группа старых вязов — штук десять, не больше. По субботам и воскресеньям Нейлз распиливал сушняк на дрова для камина. Обезображенные и обрубленные, деревья эти не сохранили ничего от былой своей скорбной красоты. Верхние ветви обломились, кора облезла, и в тусклом свете зимнего утра обнажившаяся древесина походила на обглоданную кость. Все вместе напоминало ночной кошмар или к поле битвы на другой день после сражения. Нейлз выбрал дерево и наметил, как его пилить. Он до смешного гордился виртуозностью, с какою управлял этой адской машиной и ее убийственными зубьями. Низина была защищена от ветра, и в это не по-зимнему теплое утро от деревьев даже исходил какой-то аромат, чуть пряный, напоминающий запах, разлитый в холодных храмах Рима. Начало весны. Слышны птичьи крики — то ли совы, то ли горлицы. Воздух мягкий, но не настраивающий на идиллический лад. В нем ощущалось напряжение, настороженность, предшествующие всякой перемене. Через две недели — великий пост. Что же сегодня читал отец Рэнсом? Кажется, из соборных посланий? И вдруг Нейлз вспомнил. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».
До ушей Нэлли донесся визг пилы.
В одно прекрасное утро Тони отказался встать с постели.
— Да нет же, я не болен, — сказал он матери, когда та захотела измерить ему температуру. — Просто мне ужасно грустно. Неохота вставать, и все.
Родители позволили ему не идти в школу в тот день.
Прошло пять дней, а Тони так и не встал.
Три врача, которых, одного за другим, Нэлли приглашала лечить Тони, представлялись ей впоследствии чем-то вроде трех женихов из старинной легенды, трех сказочных путников, которым предлагалось из трех сундуков выбрать тот, где хранится ключ от клада. Кому достанется ключ, получит половину королевства и королевскую дочь в придачу. Должно быть, присущий медицине элемент гадательности заставил Нэлли вспомнить сказочных женихов. Один за другим, все три лекаря подходили к постели Тони, пытаясь разгадать силу, что держала его в своей власти: Золото? Серебро? Свинец?
Первым пришел терапевт. Доктор Маллин весьма неохотно согласился приехать, ибо нынче врачи не посещают больных на дому. В критических случаях жертву увозят на санитарной машине в больницу, где врачи и практиканты вершат над нею последний обряд. Доктор Маллин уговаривал Нэлли привести Тони к нему на прием, и ей стоило немалого труда втолковать ему, что Тони не может встать с постели. Только тогда доктор Маллин обещал к ним приехать.
Он появился в полдень, в немытом «фольксвагене» с помятым крылом. Это был молодой человек — моложе Нэлли, исполненный жизнерадостности и неувядаемого оптимизма. Человеческие недуги и немощи, необратимость смерти — все то, о чем он в силу своей профессии не мог не знать, казалось, не возымели ни малейшего действия на его солнечную натуру. Эта непобедимая жизнерадостность даже несколько вредила его профессиональной репутации, ибо лекарь, столь не искушенный в горе, не очень-то импонирует человеку, перед духовным взором которого разверзается могила. Доктор Маллин не был глуп и не позволял себе шумных проявлений жизнелюбия у постели больного, однако в самом его оптимизме было нечто буйное, беспокойное, как порыв ветра, что хлопает дверьми и разбрасывает бумаги по комнате. Проводив его к больному, Нэлли спустилась в гостиную. Сверху до нее доносился бодрый зычный голос Маллина и тихие ответы Тони.