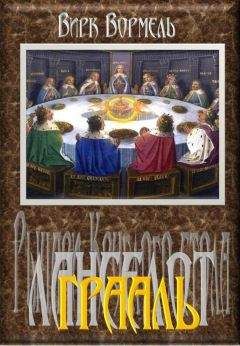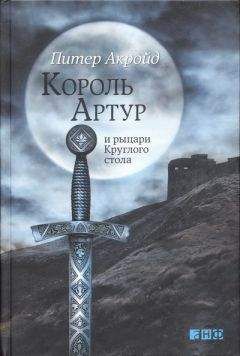Дядюшка Ахмед Бургуль рассмеялся:
— Дай нам подумать, с божьей помощью…
И она ушла, оставив в моей душе оживление, смятение и неистовое желание.
* * *
Вот она сгорбилась на своем стуле и скрестила руки. Ее взгляд полон отвращения и недовольства. На лбу у нее, словно проклятье, собираются морщины. Не лучше ли одиночество, чем тяготиться друг другом? Где же прежняя ослепленность? Где же радостное упоение? В каком уголке Вселенной оно похоронено?
* * *
Каждый раз, когда я видел ее в красном буфете, говорил себе: «Эта девушка мучает меня так же, как голод». Словно в бреду я вижу, как она веселиться в старом доме, возвращая мне молодость, разгоняя кровь. Я мечтаю, что она избавит меня от всех неизлечимых болезней.
Дядюшка Ахмед Бургуль старался подтолкнуть меня всякий раз, как оставался со мной один на один. Однажды он сказал:
— Халима мне родственница со стороны матери. Образована, умна. Я попросил аль-Хиляли, чтобы ее взяли на работу.
Совершенно искренне я произнес:
— Действительно, замечательная девушка!
— Ее тетя — хорошая женщина, и она тоже барышня… с принципами…
— Не сомневаюсь.
Он посмотрел на меня с улыбкой, от которой мое уже созревшее желание возросло еще больше. Я поддался соблазну, созданному собственным воображением, позволил убаюкать себя мечтами наяву. Мной владели неуправляемые чувства. И однажды я обратился к нему:
— Дядюшка Ахмед, я искренне желаю…
Уже в следующую секунду он понял, что я хотел сказать, и с радостью проговорил:
— Прекрасно и мудро.
— У меня нет иного дохода, кроме зарплаты, но есть жилье, а это, по нашим меркам, огромный плюс.
— Твердая почва под ногами лучше внешнего лоска.
На той же неделе он встретил меня со словами:
— Поздравляю, Карам!
Меня укрыла прохладная тень — я на территории невинного сватовства. В атмосфере чистоты, в шелковую ткань которой вплетаются блеск мечты и сладость реальности. Она подарила мне кожаный несессер, в котором были в ряд разложены по кармашкам или прикреплены бритвенные принадлежности. Я радовался, как ребенок. А Сархан аль-Хиляли поздравил меня с началом новой жизни и повышением зарплаты на два фунта. Коллеги по театру праздновали с нами в буфете и осыпали нас цветами и сладостями.
* * *
О чем думает жена? Рассеяно перебирает потной рукой кукурузные хлопья. В ее голове не зародилось ни одной светлой мысли. Нам было суждено раздражать друг друга в этой клетке. Отбросы рассыпаны по плоти старой улицы, что придает ей иной вид в лучах света. Порывы ветра гонят мелкий мусор, и бесчисленные ребячьи ноги топчут его. О чем думает женщина?
* * *
Брачная ночь? Непременно, с петушиным криком. Жестокая реальность подвела нас к краю бездны. Радостный свет нового дня перестал будить нас по утрам, — осталась только память о нем. Я настолько оцепенел, что, если бы ни звук ее сдавленных рыданий, я бы подумал, что умер. Плач выдал все. Она проронила:
— Я никогда не прощу себе.
«Правда?»
И потом:
— Надо было…
«Зачем? Только не продолжай больше…»
И еще промямлила:
— Но я в тебя влюбилась.
Я узнал ее секрет, а она мой — пока нет. Откуда ей знать, что и у ее мужа было тоже кое-что в прошлом? Откуда ей знать, насколько он развращен? Я не поддался на ее игру. Просто был удивлен, но и это удивление счел за благо.
Я сказал с едким сарказмом:
— До прошлого мне нет дела.
Она наклонила голову, возможно, чтобы скрыть свое удовлетворение, и сказала:
— Я ненавижу прошлое, я рождаюсь заново.
Будничным тоном я произнес:
— Это хорошо.
Отброшено последнее желание узнать больше. Я не сержусь, но и особой радости не испытываю. Все же я люблю ее. Я начинал свою новую жизнь с серьезным намерением.
* * *
Проходят часы, а мы не обменялись и словом. Как два арахиса в одной скорлупе. Покупатели заходят разве что пожаловаться на дороговизну, на разлитые сточные воды и убийственную очередь в кооперативные лавки. Я выражаю сочувствие. Еще покупатель может взглянуть на жену и спросить:
— Что с тобой, чего молчишь, мать Аббаса?!
На что я надеюсь? Она, по крайней мере, ждет возвращения Аббаса.
* * *
Я вступил в семейную жизнь с полной ответственностью. Разволновался, когда Халима принесла мне радостную новость о своем материнстве, но это волнение оказалось поверхностным.
Когда Аббас был маленьким, я обожал его. Все стало меняться с тех пор как однажды Тарик Рамадан сказал мне:
— Монолог Гамлета трудный. Раствори это в чашке с чаем…
Началось новое безумное плаванье. На соблазн попался человек, которому было все равно. Источники заработка стали мелеть, и, наконец, вся радость жизни оказалась задушена в безжалостных тисках ломки. Халима говорит:
— Собираешься пустить всю свою зарплату на этот яд и оставить меня одну тянуть лямку?
Какой мерзкий голос, как будто он идет из канализационных труб. Мы стали как два облетевших дерева. Голод стучит в дверь старого дома.
Однажды я сказал ей самодовольно:
— Все хорошо, что хорошо кончается.
— О чем ты?
— Давай оборудуем восточную комнату для игры…
— Что?!
— Будут приходить каждый вечер, мы не будем знать нужды.
Она посмотрела на меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, и я сказал:
— Аль-Хиляли, аль-Агруди, Шельби, Исмаил. Ты понимаешь, нужно предоставить им все необходимое.
— Это опасное решение.
— Но умное. Сказочная прибыль.
— Нам хватает того, что у нас живут Тарик и Тахия. Мы катимся вниз.
— Мы поднимемся. Только перестаньте кричать, — ты и твой ребенок…
— Мой сын — ангел. Для него это будет кошмаром.
— Да будь он проклят, если посмеет спорить с отцом! Ты портишь его своими идиотскими опасениями.
Она нехотя уступает. Забыла ли она брачную ночь? Удивительно, что люди мечтают освободиться от гнета правительства и в то же время заковывают свои души в невидимые цепи…
* * *
Вот она возвращается. Если бы она не заботилась о доме, то лучше бы совсем не возвращалась. По лицу видно, что неудачно. Я не спросил ее ни о чем. Не замечал ее, пока она не сказала со вздохом:
— Квартира до сих пор заперта…
Чтобы не вступать с ней в разговор, я поздоровался с покупателем. Когда он ушел, она довольно резко сказала:
— Сделай же что-нибудь!
Я был от нее далеко, в своих мыслях, которые не давали мне покоя. Размышлял о том, что правительство сажает нас в тюрьму за свои же неприкрытые преступления. Не оно ли управляет игорными домами? Не оно ли поощряет притоны, ожидающие посетителей? Я в шоке от их действий и против их чудовищного лицемерия. Раздается голос жены, она просит:
— Сходи еще раз к директору.
Я говорю с издевкой:
— Сама к нему иди, он твой близкий знакомый, а не мой.
Она заводится, кричит:
— Господи, прости мать, родившую тебя!
— Она, по крайней мере, не лицемерила, как ты.
Она заохала:
— Ты не любишь своего сына, ты никогда его не любил…
— Я не люблю лицемеров. Но и не стану отрицать, что он нам помогает.
Она повернулась ко мне спиной, причитая:
— Где же ты, Аббас?
* * *
Где Сархан аль-Хиляли? Он вышел и не вернулся. Не мог же он заснуть в туалете? Игра продолжается, и я снимаю свой выигрыш после каждой партии. Где Халима? Разве ей не пора предложить нам что-нибудь выпить?
Я спрашиваю:
— Где директор?
Никто не отвечает. Все заняты своими картами. Чего так ехидно уставился на меня Тарик Рамадан?! Халима должна разносить напитки.
— Халима!
Нет ответа. Я не могу оставить свое место, иначе меня обманут.
— Халима!!!
Гремит мой голос. Но вот она, наконец, подошла.
— Ты где была?
— Разморило…
— Приготовь выпить… Подмени меня, пока я не вернусь…
Я вышел из игрового зала. В холле на первом этаже столкнулся с Аббасом. Спросил его:
— Что подняло тебя в такую рань?
— Бессонница напала…
— Ты видел Сархана аль-Хиляли?
— Он ушел.
— Когда?
— Только что… точно не знаю…
— Мать его видела?
— Не знаю!
Почему он ушел? Почему сын смотрит на меня и молчит? Я чувствую незнакомый запах. Я — кто угодно, только не болван. Когда в доме остались лишь окурки и пустые стаканы, я долго смотрел на жену, а потом спросил:
— Что произошло у нас за спиной?
Она уставилась на меня с презрением и ничего не ответила. Я стал настойчивее:
— Аббас видел?
Она не ответила, только разозлилась.
Я продолжил:
— Это он дал тебе работу…
Она топнула ногой, и я усмехнулся: