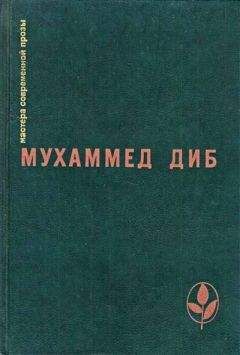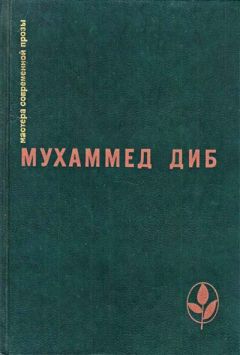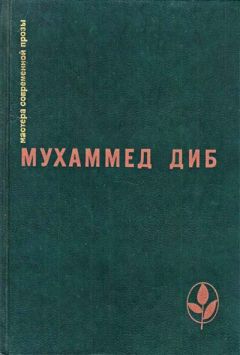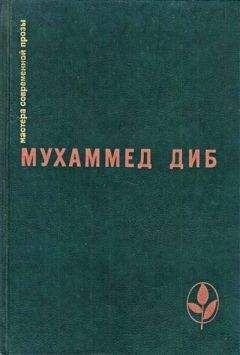Да разве и он не достойный сын своей матери? Разве откажется он от доставшегося ему выигрыша? Камаль стремительно соскочил с кровати, словно его кто-то подтолкнул. Но, сделав несколько шагов, он замер вдруг посреди комнаты, уставившись в пол. Рассеянно провел рукой по волосам. Потом направился к двери, открыл и через арку по лестнице выбежал в ярко освещенный дворик, пошел по одной из начинавшихся тут же галерей с длинными столбами по краям, до середины покрытыми керамическими плитками, а выше покрашенными, как и стены, в небесно-голубой цвет. Солнечные блики переливались на вечно неспокойной водной глади. Камаль не замечал разлитой под аркадами пьянящей утренней свежести, очарования и покоя. Он вообще ни на что не обращал внимания.
Камаль взялся за ручку завешенной тяжелыми гардинами двери. Плотно сжав губы, вошел и окинул мать суровым взглядом; та, не удержавшись, воскликнула:
— Мальчик мой, что случилось?
Она сидела в гостиной, и на столе перед ней лежал поднос — по воскресеньям она завтракала в одиночестве (в будни она посылала будить сына свою верную служанку Хейрию и не притрагивалась к еде, пока он не усядется против нее). Камаль застыл на пороге. Шея под маленьким, слегка утяжеленным подбородком лицом матери выглядела столь изящно, что у Камаля перехватило дыхание. Острый тонкий нос, направленный в его сторону, нежные скулы, черные живые глаза, тесно очерченные сверху бровями, вытянутыми к вискам, по форме напоминающими запятые, — казалось, она еще не решила, засмеяться ей или удивиться. Волосы ее обтягивал завязанный по-турецки шелковый платок, а розовые и без румян щеки словно лучились мягким светом.
Столь явная красота матери растрогала Камаля. В нем заговорил стыд, и ему стало неловко, что он так быстро переменил о ней мнение.
Но он упрямо решил выложить ей все тут же, отбросив недомолвки, отказавшись от стыдливого замалчивания. Он желал теперь знать правду, которую, не объясняя толком причин, от него всегда утаивали, отделываясь милыми шутками. Какой бы чудовищной она ни была, Камаль хотел до нее докопаться.
По телу побежали мурашки, дрожь пробрала Камаля, и ему пришлось собрать все силы, чтобы совладать с нею.
— Ну что стоишь, садись, — весело сказала мадам Ваэд. — Славно с твоей стороны подняться в такую рань, чтобы составить мне компанию, ты ведь сегодня выходной. Позавтракаем вдвоем, вдвоем куда приятнее.
Но Камаль, словно и не слыша ее слов, продолжал стоять, уставившись на мать и стараясь унять охватившее его волнение.
— Что не садишься-то?
Тон мадам Ваэд словно сам собой изменился, лицо омрачилось.
— О господи, да что с тобой? Захворал? Скажи мне…
Она привстала.
— Со здоровьем у меня все в порядке! — выпалил Камаль. — Сиди, не вставай, сиди, я сказал.
Недоуменно подняв брови, мадам Ваэд уселась на место. Она явно не знала, чему приписать столь грубое поведение сына, однако решила не выказывать недовольства, а подождать, что будет дальше.
— Это скорее уж ты должна сказать… — не унимался Камаль.
Но, едва начав говорить, он внезапно умолк, как бы пораженный или уязвленный — трудно сказать, какое слово подходило точнее, — посетившей его смешной, нелепой мыслью.
— Да что сказать? — спросила наконец мадам Ваэд.
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я! — снова перешел в наступление Камаль. — Один раз в жизни скажи правду. Ты всегда меня водила за нос. Я хочу знать правду. Правду!
Он все более и более овладевал собой. И когда он еще раз повторил уже тихим, спокойным голосом: «Я хочу знать правду», — это звучало как последнее предостережение.
Мадам Ваэд, казалось, была ошеломлена. В ее глазах все еще горели лукавые искорки, но смотрели они уже не испытующе, как минуту назад, а встревоженно.
— Но о чем правду? Я не понимаю, что ты так кипятишься. И потом, не веди себя так по-детски.
Камаль даже рот раскрыл:
— По-детски! Хочешь все оставить, как было! А сама…
Теперь он заговорил, отчеканивая каждое слово:
— Не станешь же ты утверждать, будто не понимаешь, к чему я клоню. Не смотри на меня так, ты прекрасно знаешь… да, знаешь!
Тут в комнату вошла Хейрия с кувшином пенистого молока, которое она, видно, только что сняла с плиты. Столкнувшись нос к носу с Камалем, она чуть было не опрокинула кувшин. Ее удивление объяснялось просто: никогда прежде молодой хозяин в воскресенье не сходил вниз в такую рань. Она непроизвольно подалась назад. Но, почуяв неладное, передумала и, виновато опустив глаза, отважно подошла к столу и замерла в ожидании. Она бы долго так простояла с кувшином в руках, если бы мадам Ваэд, как обычно, властным тоном не распорядилась:
— Поставь, голубушка, кувшин.
Хейрия неловко поставила кувшин и на цыпочках отошла от стола.
Благосклонно, но с достоинством хозяйка протянула ей тарелочку:
— Поди съешь пирожные на кухне. Камаль был так любезен, что спустился сегодня пораньше. Там для тебя найдется молоко, кофе?
— Да, мадам, — прошептала девушка.
И выскользнула за дверь, держа в руках тарелку со сластями.
Мадам Ваэд повернулась к сыну. На удивление звонким голосом, чуть насмешливо, но без тени неприязни, она осведомилась:
— Хотя дело у тебя, вижу, спешное, но не присядешь ли для начала? — И она указала на табурет.
— Не присяду.
— Как хочешь. Ну, слушаю тебя. Только сперва успокойся. И не говори загадками. Может, тогда я возьму в толк, о чем идет речь.
Приход служанки отвлек Камаля, а спокойствие матери, ее самообладание, веселое настроение заметно поколебали уверенность, которую он с таким трудом приобрел. Сжав челюсти, он искоса поглядывал по сторонам. Потом выдавил сквозь зубы:
— Много лет ты получала деньги. Пусть ты их тратила на мою учебу. Но откуда они? И почему тебе их посылали? И кто посылал? Ты должна мне сказать.
И невидящим взором он уставился прямо перед собой, проникнувшись на этот раз серьезностью шага, на который отважился. Теперь все прояснялось. Прояснялось? Вот уж за что нельзя поручиться. «Я не знаю, куда меня несет, если вообще я не кружусь на одном месте. И чего хочу, не знаю, и узнать боюсь». Стремление докопаться, докопаться во что бы то ни стало не давало ему покоя и определяло его поступки.
— Я рада, что ты заговорил об этом первый. Сама бы я никогда не стала ворошить прошлое. Но теперь давай обсудим все спокойно.
Вдруг у Камаля мелькнула мысль, что надо было еще какое-то время подождать, что он поспешил, как следует все не обмозговал. Но полный решимости взор ее светлых глаз отрезал ему пути к отступлению.
— Ты страдал из-за этого?
Последнее слово замерло у нее на устах. Он не станет жаловаться, пусть мать не надеется. Сказанное ею ничего не значило по сравнению с душившим его горем, словно вопрос задал совсем чужой человек. Да и любые другие слова прозвучали бы так же. Никогда еще Камаль не был столь непреклонен, как сейчас.
— Но ведь хорошо, что все так получилось, — промолвила мадам Ваэд и добавила: — Тебе не кажется?
Камаль молчал.
— Разве это не принесло добрые плоды?
— Добрые плоды, — тем же тоном, как бы машинально, повторил Камаль. Он даже не шелохнулся.
— Думаю, тебе грех жаловаться на свое теперешнее положение.
Она посерьезнела, хотя и держалась все так же непринужденно. Камаль задумался.
— Боюсь, что это не так.
— Не станешь же ты отрицать…
— Что же тут хорошего, когда не знаешь, чему ты обязан своим положением?
Вперив в него взгляд, она была вынуждена с досадой засвидетельствовать:
— Теперь это не имеет значения.
— Не имеет, пока не догадываешься.
Мадам Ваэд умолкла, по-видимому размышляя. И вдруг, почувствовав себя задетой, решительно отмела возражение Камаля:
— Ты не сможешь того, что было достигнуто, перечеркнуть простым отрицанием, взять и отмести в сторону. Ни ты, никто другой. — Не теряя хладнокровия, она перешла в наступление. — Так ты хочешь знать все? Все?
— Все.
— Так вот, это самое «все» яйца выеденного не стоит.
— Ты не должна так говорить.
Камалю почудилось, что в глазах матери промелькнул страх. Он обернулся. Собственные мысли служили ему пристанищем, куда нет доступа другому и где он оставался наедине с самим собой.
— Ты не имеешь права.
Мадам Ваэд угадала его внезапное намерение преуменьшить значение вопроса. В этом она усмотрела вызов ее холодному, трезвому уму. В свою очередь она возразила:
— Тебе не за что краснеть.
Камаль не мог справиться с волнением, когда увидел, что мать все поняла. На какое-то мгновение он готов был поверить, будто пришел сюда не объясниться с матерью или осудить ее, а лишь удостовериться в своей проницательности. Но боль достигла наивысшей точки, когда мадам Ваэд вымолвила, словно в утешение: