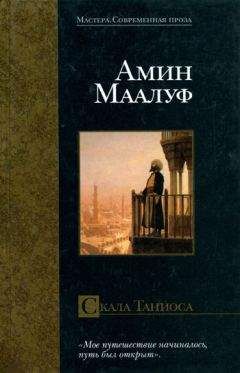— Я приготовлю для шейха корзинку фруктов, но лучше бы ты сам отнес ее. Мне не хочется входить в его спальню, а то как бы он еще чего-нибудь не попросил.
— Чего именно?
— Ну, не знаю… Ему всегда чего-нибудь надо… Очистить от кожуры… порезать…
Она смутилась, что-то залепетала. Гериос захлопнул ларь, откуда доставал деньги, и обернулся к ней:
— Если бы ты научилась держаться, как подобает в твоем положении, о чем я постоянно тебя умолял, шейх никогда бы тебя ни о чем не просил.
«А ты сам? — могла бы она возразить супругу. — Разве ты всегда держишься, как подобает в твоем положении? Почему он не мог послать кого угодно, чтобы пригласить Якуба завтра к утру?» Но у нее не было никакого желания с ним пререкаться, напротив, она удрученно запричитала:
— Ну да, ты совершенно прав, а я виновата. Но не надо сейчас вспоминать о том, что было…
— Конечно, не будем, а впредь больше думай о том, как получше соответствовать своему рангу. Но теперь господин тебя уже попросил, так что приходится повиноваться.
Тут Ламиа схватила супруга за рукав и со слезами на глазах попыталась удержать:
— Да пойми ты, мне боязно к нему входить! — Их взгляды надолго скрестились, Ламии на минуту показалось, что муж колеблется, она даже вообразила, что вот-вот услышит от него: «Я понял твою тревогу, и я знаю, что мне сейчас надо делать!» Как бы ей в тот миг хотелось во всем положиться на него! Она бы с радостью навек перестала упрекать его в низменной мелочности, а помнила бы только одно: он — ее муж, она дана ему до гробовой доски и должна следовать за ним в счастье и невзгодах.
Гериос не проронил ни слова, и сама Ламиа умолкла, боясь его разозлить. Он выглядел вялым, колеблющимся, неуверенным. Так прошло несколько секунд, но казалось, этой паузе не будет конца. Затем он отстранил жену. Отошел в сторону.
— Из-за тебя я сильно опаздываю. Эдак мне не вернуться засветло. — Он больше не смотрел на нее. Зато ее глаза неотрывно следили за ним, пока могли его видеть.
Он шел ссутулившись, его спина казалась громадным черным горбом. Таким скрюченным Ламиа никогда его не видала.
Она почувствовала себя преданной, покинутой. Обманутой.
Корзинку с фруктами Ламиа подбирала долго-долго. В тщетной надежде, что ко времени, когда придется войти в шейхову спальню, он уже заснет.
Проходя последним коридором, она ощутила какой-то зуд, как будто отсидела ноги и даже бедра. Страх? Желание? Или страх пробудил желание?
Теперь у нее дрожали руки. Она все более замедляла шаг. Если на небесах есть Кто-то, пекущийся о благе своих творений, Он позаботится о том, чтобы молодая женщина никогда не дошла до этой комнаты.
Дверь оставалась полуоткрытой. Она тихонько толкнулась в нее корзинкой и заглянула внутрь. Мужчина лежал на подушках спиной ко входу. В правой руке — привычные янтарные четки; перебирая их, в здешних местах обыкновенно убивали время — вот и он теребил их всегда, когда не посасывал наргиле; он любил приговаривать, что постукивание янтарных зерен друг о дружку успокаивает ум, как журчание воды по камням или потрескивание дерева в пламени костра.
Ламиа не смотрела ни на четки, ни на кольцо с печаткой на безымянном пальце господина. Она только, быстро окинув его взглядом, удостоверилась, что его пальцы, толстые пальцы самца, не шевелились. Тогда она осмелела, вошла внутрь, сделала два шажочка вперед и подогнула колени, чтобы положить корзинку на пол. Но, собираясь подняться, она неловко отдернула руку от корзинки, и оттуда выпал гранат; он медленно покатился от нее с пусть приглушенным, но стуком. В ушах Ламии это постукивание по шероховатостям пола прогремело громче барабана. Затаив дыхание, она смотрела на катящийся плод, пока он не застыл на волосок от руки спящего шейха. Подождав еще чуть-чуть, она перегнулась через корзинку и подобрала строптивый гранат.
Шейх пошевелился. Повернулся на другой бок. Медленно, словно не вполне очнулся от сна. Но, поворачиваясь, цапнул гранат, даже не взглянув на него, словно уже зная, что он там, под рукой.
— Ты не очень-то поспешала, я почти что задремал. — Он поднял глаза к окну, словно пытаясь определить, сколько времени.
Но занавеси на окнах опустили задолго до этого, и теперь мудрено было понять, который час… Да любой, какого можно ожидать в полутьме осенних сумерек.
— Чего хорошенького ты для меня припасла?
Ламиа через силу выпрямилась. В ее голосе проступило невнятное дрожание — сказывался страх:
— Тут виноград, винная ягода, испанский боярышник, несколько яблок, ну и вот этот гранат.
— А по-твоему, какой из принесенных тобой плодов самый ароматный? Тот, что стоит надкусить с закрытыми глазами, и все во рту сладко заблагоухает?
Солнце за окном, видимо, скрылось в густом облаке, так как в комнате стало гораздо темнее. Послеполуденный жар только-только начал спадать, а здесь уже вызрела ночь. Шейх поднялся, выбрал из самой красивой виноградной кисти самую мясистую виноградину и поднес к лицу Ламии. Та полураскрыла губы.
Когда ягода оказалась у нее во рту, он прошептал:
— Я бы хотел видеть, как ты улыбаешься!
Она улыбнулась. И он разделил с ней все плоды того щедрого сентября.
ПРОИСШЕСТВИЕ II
САРАНЧОВОЕ ЛЕТО
В году 1821-м на исходе июня месяца Ламиа, супруга Гериоса, замкового управителя, произвела на свет мальчика, которого назвали сперва Аббасом, а затем Таниосом. Еще не успев открыть свои невинные глазки, он навлек на селение поток незаслуженных напастей.
Это он впоследствии получил прозвище «кишк», и именно ему выпала достославная доля. Вся его жизнь сделалась чредой невероятных проявлений судьбы.
«Хроника горного селения», принадлежащая перу монаха Элиаса из Кфарийабды
(Прежде чем связать вновь нить этой истории, мне бы хотелось на минутку остановиться на приведенных выше строчках и, в частности, на загадочном слове «oubour», которое я перевел как «происшествие». Хотя монах Элиас нигде в своем труде так и не соблаговолил дать ему толкование, оно постоянно появляется под его пером, и я смог установить его смысл лишь методом исключения.
Автор «Хроники» говорит, например: «Рок — это то, что происходит: он непрестанно входит в нас и исходит из нас, подобно тому, как игла сапожника проницает кожу заготовки», а в другом месте замечает: «…Провидение печется о внушающих оторопь происшествиях, метящих наш путь собственными вешками, изменяя жизнь по своему произволу».
«Происшествие», следовательно, оказывается одновременно знаком судьбы, резко и открыто меняющей свое направление, когда Провидение иронически, жестоко, а то и воистину провиденциально вмешивается в жизнь, и какой-то явно различимой метой, что выделяет в повседневном существовании некий особенный этап. В этом смысле искушение Ламии является для судьбы Таниоса первоначальным «происшествием», из коего проистекли все остальные.)
I
Когда Гериос возвратился из своей поездки, была ночь, на сей раз настоящая. Его жена уже улеглась, он нашел ее на ложе в их спальне, и они не обменялись ни единым словом.
Прошло несколько недель, и у Ламии впервые возникли приступы тошноты. Она была замужем около двух лет, близкие с беспокойством поглядывали на ее живот, все еще остающийся плоским, и полагали, что пора обратиться к покровительству святых и помощи целебных трав, дабы избавить ее от порчи. Эта беременность обрадовала всех, женщины так и завертелись вокруг будущей матери, благо многие были к ней сердечно привязаны. Тщетно было бы выискивать среди всего этого хоть один подозрительный взгляд, малейшее недоброжелательное шушуканье. Лишь в марте месяце, когда шейхиня вернулась в замок после своего затянувшегося гостевания в отчем доме, Ламиа почувствовала, насколько вдруг холоднее стало ее обхождение. Правда, супруга хозяина переменилась ко всем — гневливо и презрительно встречала поселянок, когда те потянулись к ней на поклон, да и лицо у нее словно бы сморщилось, осунулось малость, хотя сама она при этом не перестала быть тучной.
Поселяне не преминули насмешливо отметить сии изменения. Причуды «своего» шейха они были готовы сносить, но еще не хватало терпеть капризы от чужачки, от этого «бурдюка с прокисшим молоком», этой «занозистой бабы, набитой фокусами Загорья»! Если Кфарийабда ей больше не по нутру, пусть возвращается домой, скатертью дорога!
Однако Ламии не удалось успокоить себя предположением, будто хозяйка замка взъелась на всю деревню разом, нет, шейхиню наверняка настроили именно против нее, и она ломала голову, чего ей могли наговорить.
Ребенок родился в ясный, погожий летний день. Легкие облака смягчали жар солнечных лучей, и шейх распорядился устелить коврами террасу, откуда открывался вид на долину, чтобы устроить завтрак на свежем воздухе. С ним были «буна» (кюре) Бутрос, еще двое влиятельных местных персон да Гериос, а чуть поодаль на табурете восседала шейхиня со своим тантуром на голове и сынком на руках. Все не без помощи арака пребывали, казалось, в превосходном расположении духа. Никто не был пьян, но речи и жесты стали развязнее, как это бывает навеселе. А невдалеке, у себя в комнате, Ламиа под надзором повитухи со стонами выталкивала дитя из своего чрева. Сестра держала ее за руку — старшая сестра, «хурийе», жена кюре.