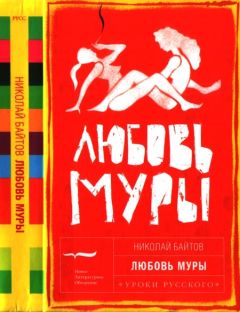Через тонкие деревянные стенки нашего домишка слышны шаги, под ногами пробегающих пешеходов скрипит снег. Морозец усиливается, что чувствуется и в комнате (12°). Утром, когда я бегу на работу, в разрезе долин (бывшие крепостные валы, прилегающие к Лавре) сквозь морозный туман выступают розовые полоски бледной зимней зари — в такие минуты всё существо тянется к радости жизни, хочется пропеть гимн ей и чем-нибудь особенным зафиксировать этот день. Понятие жизни — ведь это так относительно и по-разному (субъективно) применимо. Для одних это сладость лишений, отказ от личных потребностей и огонь героизма (для людей, одержимых какой-либо идеей, — высшая, высокопробная порода!), для других это разбрасывание своих сил в горячке удовлетворений своих потребностей и брызг мелких тщеславных желаний (т. зв. светскость, внутренняя пустота!); для третьих — кропотливое обслуживание своей семьи, что изо дня в день заботливо плетётся, как паутина, и в тенётах ея не проглядывает ничего извне и ничего не проникает помимо своего очерченного паутиной круга (ограниченность, посредственность и часто тупость, а с ней самодовольство и самовлюблённость)!.. и т. д., и т. д. Ни к одной из этих категорий я не принадлежу…
23/XII.
Вчера вечером не окончила письмо. Боли помешали, они же отняли у меня полночи. Сегодня чувствую большую слабость и — как это часто бывает — параллельно физической слабости большой подъём в работе. Столько всевозможных заданий, что не знаю, за что прежде приняться. Но выполняю их аппетитно, со вкусом. Как бы мне хотелось познакомить Вас со своими питомцами — они очаровательны! Дорогие детские мордочки! Этот возраст (дошкольный) самый любый мне. Они смышлёны, широко раскрытыми глазёнками воспринимают мир, но в то же время нет ещё лжи и уклончивости детей школьного возраста…
24/XII.
Принятое мной решение не писать Вам ежедневно — не могу сдержать, — сложилась уже милая мне привычка, от которой отойти значит ущемить себя. Вы обо мне вспоминаете только лишь «часто» (эта любезная фраза!), в то время как у меня Вы постоянно в центре. Я знаю, как меня бы раздражали подобные рассуждения, они подействуют и на Вас также. Но не сердитесь, — я Вас люблю, и только лишь поэтому я так требовательна.
Теперь Вы убеждаетесь, не правда ли, в моём несносном отношении к людям, которые мне дороги, и у Вас может вырваться досадное восклицание: «что, наконец, ей нужно!». Дорогая, Вы будете совершенно правы! Я и сама сознаю, что смешна и нелепа…
Что-то кисло мне, от болей становлюсь дохлой, от Вас писем нет, домашние злят, в комнате холодно и т. д. и т. п. Беру книгу и валюсь в кровать. Может быть, не следовало бы отправлять это наполненное брюзжанием письмо, так, наверное, скажете и Вы, но по размышлении я решаю — пусть идёт. Целую горячо. Мура.
25/XII.
Решение пореже Вам писать (ведь Вы рискуете потонуть в моём писаньи!) так нестойко, оно не выдерживает моего напора, и после короткого, весьма слабого сопротивления — я Вам всё-таки сегодня пишу (приходят на память слова Verlain’a: «Mon coeur, si faible et fou…»). Да, «si faible» по отношению к Вам, только к Вам.
Я часто думаю о своём отношении к Вам, анализирую его, а анализу, между прочим, я боюсь подвергать свои влечения. Как правило он (анализ) беспощадно-холодно вскрывает, как хирург, все плёнки, налёты сентиментализма, и часто я вижу поверх эмоций такую обнажённость, что при всём желании сберечь дальше отношения не в моих силах. Но ближе, по существу начатой мысли! — Всей своей сущностью, которую я успела схватить за короткое знакомство и за время нашей переписки, — Вы являетесь для меня человеком, с которого я беру пример, и издали, на расстоянии я «воспитываюсь» на Вас, не говоря уж об аромате Ваших внешних проявлений. Может быть, я начинаю Вас идеализировать?
Тот же анализ подводит меня к Вашему отношению ко мне, и здесь я себя чувствую «неважно» (как говорит один мой знакомый). Моя стремительность, экспансивность Вас тревожит, Вам не совсем нужна (даже абсолютно не нужна) горячка отношений. (А кому она вообще нужна!..) Напор каких-то требований Вас, очевидно, утомляет. Вы, может быть, уж хотели бы отдохнуть от дальнейших перипетий такой «сильной» дружбы. Но сдерживает Вас природная мягкость…
Прерывают меня.
26/XII.
Между прочим, на днях — кажется, третьего дня — я отправила Вам письмо, полное ненужных упрёков, — не сердитесь. Я и так досадую на себя. Дура, нелепая баба, чего я от Вас хочу?!..
В своих отношениях к мужчине, когда я очень увлечена им, когда я «горю» им — я всегда больше даю, чем получаю. И всегда это горение столь мучительно, с таким проходит для меня надрывом, что я счастлива и облегчённо вздыхаю, когда наступает охлаждение. Тогда я отхожу от него с глубоко спрятанным где-то в подсознании злорадством, что внезапным уходом я хоть чем-то отплачиваю ему за свои мучительные переживания. Природа всё-таки разумно поступила со мной, наделивши испепеляющим огнём чувства с резким остыванием его. В этой «разумности» много для меня несчастья. Удобней жить с рассудительно-спокойным чувством.
Можете теперь представить, что испытывал Пётр во время моей вспышки к нему? Как поражала я его горячностью (дотоле незнакомой ему) и каково будет ему теперь и как я ему буду «смотреть в глаза»?.. [Эта «вспышка», насколько я понимаю, была минувшим летом. Впрочем, на следующее лето Мура, кажется, опять к нему поедет…]
Аналогия между такими чувствами и моим отношением к Вам есть, а именно: безусловно существует какой-то надрыв. Поймите меня, голубка, правильно. Такие вещи не всегда следует писать. О них иногда лучше говорить в непосредственном собеседовании. Может быть, это объясняется долгим отсутствием у меня друга-женщины (хотя приятельниц у меня много, я от них очень быстро ухожу). Ведь такие люди, как Вы, встречаются нечасто, не всегда удаётся встретить человека такого близкого общностью понимания и столь культурного. Причём для меня достаточно иногда проявленного одного штришка, чтобы я могла прочесть, увидеть всю чистоту линии. Так и здесь — достаточно было нескольких первых Ваших фраз, чтобы я насторожилась и стала к Вам внимательней.
Вот так «внезапно и странно» (Ваши слова) появилась заинтересованность Вами, подталкиваемая к тому же пустотой-тоской курортного безделья. Вначале просто хотела узнать, «раскусить» ещё один человеческий индивидуум, а потом привыкла к Вам, притянутая Вашим обаянием (так быстро, как только умею я!)… Теперь же надрыв к Вам углубляется тем, что я чувствую Ваше внутреннее сопротивление. Не знаю, в чём дело, но оно ощутимо мне. Вы молчите о беспокойстве, приносимом Вам моими частыми, выходящими из всяких границ письмами — ergo — надо понять, что это так?! Хорошо, постараюсь войти в берега приличной переписки. Обещаю Вам, детонька, писать 1 раз в 6-ти-ку [шестидневку].
Начинаю леченье с 28 числа, дальше я терпеть этих болей не могу. Я подурнела невероятно, заострились и без того острые черты лица, и теряю силы. Пётр просит заснять Иду на лыжах, и если удастся залучить к себе фотографа — такой же снимок я пришлю и Вам. Она Вам приготовила ещё рисунок, но без нея, так же как и стихотворения (она спит) — найти не могу.
27/XII.
Ксения, моя дорогая, Вы мне очень близки, у меня на Вас, пожалуй, последняя ставка «на человека». Этим я, конечно, не хочу разжалобить Вас и вытянуть большего ко мне внимания. Таким методом я не действую. Вот я со многими людьми в переписке, от многих получаю частые письма и со всеми я спокойно поддерживаю отношения. В данном случае с Вами мне надо чего-то больше, мне надо знать, что и для Вас я являюсь таким же существенным, как и Вы для меня [конец фразы подчёркнут простым карандашом — Ксенией].
Говорят, что только одинокие люди, неудачники, старые девы могут так внезапно загораться любовью к случайно встреченному человеку. Как будто ни к одной из этих категорий я не принадлежу. Если я и причисляю себя к неудачникам, то только лишь потому, что требования мои больше обычной нормы, во всяком случае, я не даю собой «классического» типа неудачника. Меня так же, как и Вас поражает моё отношение к Вам. Это отношение было бы понятней, если б я в своей семейной скорлупе чувствовала б безоблачность ея и от радужности такой обстановки потянулась бы ещё и к такому чудесному существу, как Вы. Но жизнь моя чрезмерно трудна: масса забот, очень ответственная работа (живой материал — даны человеческие жизни!), собственное нездоровье и такая неразбериха в семейной обстановке, усложняющаяся тяжёлым характером матери, которой не могу оставить и с которой жизнь невозможна. Давая такой перечень осложнений своей жизни, я и половины не открываю Вам ея прелестей, имея в виду принцип, что «о горе твоём не следует передавать даже другу».